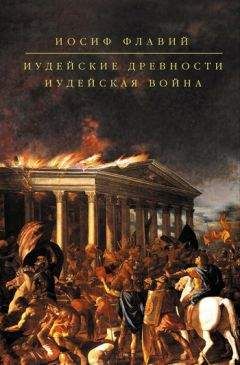Лион Фейхтвангер - Иудейская война
Вино оказалось хорошим, его было вдоволь. Люди забыли о господине из Иерусалима и, окутанные вонючим дымом, поднимавшимся из жаровни, беседовали медлительно, пылко и убежденно о мессии, который должен прийти сегодня, может быть — завтра, но непременно в этом году. Конечно, мессия может быть и египтянином, настаивал тупо и упрямо столяр Халафта. Разве не написано о железной метле, которая выметет всякую гниль из Израиля и из всего мира? И разве спаситель — не эта железная метла? Но если так, то зачем Ягве посылать иудея, чтобы он поразил иудеев? Не предпочтет ли он послать необрезанного? Почему же мессии и не быть необрезанным?
Тут мелочной торговец Тарфон заныл на своем гортанном, неясном, тяжелозвучном диалекте:
— Ах и ой, конечно же, мессия будет иудеем. Разве доктор Доса бен Натан не учит, что он соберет все рассеянные племена, и что тогда, ой и ах, он будет лежать убитый, непогребенный на улицах Иерусалима и что его имя будет Мессия бен Иосиф? А как может нееврей называться Мессия бен Иосиф?
Но тут снова вмешался хозяин Феофил Гиора и поддержал столяра Халафту. Его обижало, как это нееврей не может быть мессией. Мрачно и упрямо продолжал он настаивать: только нееврей может быть мессией. Ибо разве в Писании не сказано, что он совьет небеса, как свиток, и что сначала будет наказание и великое избиение и пожар в преступном граде?
Несколько человек поддержали его, другие стали возражать. Все они были взбудоражены. Неторопливо, хмуро ныли и возмущались они, спорили друг с другом, горячо обсуждали загадочные, противоречивые пророчества. Они были тверды в своей вере в спасителя, эти галилеяне. Но только каждый представлял его по-своему и каждый защищал именно свой образ, видел его ясно, был уверен, что прав именно он, а другие неправы, и каждый спешил найти подтверждение своего образа в Писании.
Иосиф напряженно слушал. Его глаза и нос были весьма чувствительны, но на этот раз он не замечал едкого, противного, вонючего дыма. Он смотрел на людей, с трудом ворочавших свои доводы под толстыми черепами. Было прямо-таки видно, как они их откапывают, с усилием переплавляют в слова. Когда-то, когда он жил у отшельника Бана в пустыне, провозвестия пророков вставали перед ним, великие и непоколебимые, он вдыхал их вместе с окружающим воздухом. Но в Иерусалиме провозвестия потускнели, и из всего Писания те места, где говорилось о мессии, стали казаться ему наиболее смутными и непонятными. Ученые из Зала совета не любили, когда эти предсказания применялись к современности; многие склонялись к мнению великого законоучителя Гиллеля[71], что мессия уже давно пришел в лице царя Хизкии[72], они вычеркивали из восемнадцати молений[73] то, где говорилось о пришествии спасителя, и когда Иосиф спрашивал себя, то должен был признаться, что уже много лет надежда на это пришествие не живет ни в его мыслях, ни в его поступках; а теперь, в этот вечер, в темном, дымном трактире, ожидание спасителя вновь стало для него чем-то осязаемым, стало счастьем и тоскою, краеугольным камнем всей жизни. Жадно, с раскрытым сердцем слушал он речи этих людей, и верования бесхитростных ткачей, лавочников, столяров, маслоделов казались ему куда ценнее остроумных комментариев иерусалимских законников. Принесет ли спаситель меч или оливковую ветвь? Они отлично понимали, что люди эти все больше горячатся, волнуемые разногласиями в их бурной вере, и что, несмотря на их благочестие, спор между ними становится все более угрожающим.
Наконец дошло до того, что столяр Халафта хотел наброситься с кулаками на лавочника Тарфона. Вдруг один из более молодых сказал торопливо и тревожно:
— Бросьте, постойте, слушайте: он видит.
Тогда все посмотрели на место рядом с жаровней. Там сидел горбун, тощий, костлявый и, по-видимому, близорукий. До того он почти не открывал рта. А теперь, мигая, с трудом вперялся в облака дыма, щурился, словно хотел рассмотреть что-то на границе своей зоркости, снова таращил глаза и моргал. Люди пристали к нему:
— Ты видишь, Акиба? Скажи нам, что ты видишь!
Все еще напряженно вглядываясь в сумрачный воздух, башмачник Акиба голосом, охрипшим от вина и дыма, сказал просто, с ярко выраженным галилейским выговором:
— Да, я вижу его.
— Как он выглядит? — спросили они.
— Он не велик ростом, — сообщил видящий, — но широк в плечах.
— Что он, иудей? — спросили они.
— Не думаю, — отвечал он. — У него нет бороды. Но кто узнает по лицу человека, иудей ли он?
— Он вооружен?
— Меча я не вижу, — отозвался Акиба, — но, кажется, он в доспехах.
— Что он говорит? — спросил Иосиф.
— Он шевелит губами, — отозвался Акиба, — но я не слышу, что он говорит. Кажется, он смеется, — добавил он значительно.
— Как он может смеяться, если он мессия? — недовольно спросил столяр Халафта. Видящий возразил:
— Он смеется, и все же он страшен.
Затем он провел рукой по глазам и заявил, что теперь больше ничего не видит. Он устал и был голоден, ворчал, пил много вина, потребовал себе также птицы в молоке. Хозяин рассказал Иосифу про башмачника Акибу. Он очень беден, но все-таки каждый год совершает паломничество в Иерусалим и приносит своего агнца в храм. Во внутренние дворы его не пускают, так как он калека. Но он привязан к храму всем сердцем и всеми помышлениями и знает о внутренних дворах больше, чем многие, побывавшие в них. Может быть, именно потому, что ему нельзя видеть храм, Ягве и дал ему другое зрение.
Люди еще долго сидели в трактире, но о спасителе они больше не говорили. Они говорили о том, насколько возросла численность маккавеев, об их организованности и вооружении. Решительный день скоро наступит. Акиба, снова повеселевший, убеждал необрезанного хозяина, что, когда этот день настанет, ему тоже придется в него поверить. Затем они вновь обратились к господину из Иерусалима и стали поддразнивать его с присущей им неуклюжестью, но не зло; Иосиф не обижался и шутил вместе с ними. Под конец они потребовали, чтобы он считал себя их гостем и поел птицы в молоке. Больше всего настаивал Акиба, ясновидящий. Упрямо повторял он, хныча:
— Ешьте же, вы должны есть.
В Риме Иосиф мало заботился о соблюдении обычаев, но в Иерусалиме он строго придерживался запретов и заповедей. Здесь была Галилея. С минуту он подумал. Потом стал есть.
Иосиф избрал своей штаб-квартирой Магдалу, живописное большое селение на берегу Генисаретского озера. Когда он катается по озеру, он видит на юге белый и пышный город, красивейший город страны, но этот город не в его округе, он подчинен царю Агриппе. Он называется Тивериадой. И в нем сидит Юст, которого царь назначил туда наместником. Городом управлять нелегко, больше трети его жителей римляне и греки, избалованные царем, но доктор Юст — тут ничего не скажешь — умеет поддерживать порядок. Когда Иосиф прибыл в Галилею, тот вежливо отдал ему визит. Но о политике Юст не обмолвился ни словом. Он, видимо, считает полномочия, данные иерусалимскому представителю, ограниченными. Иосиф, в самой глубине души, задет, его охватывает мучительное желание, чтобы Юст это понял.
Высоко над Тивериадой сверкает большой, величественный дворец царя Агриппы, теперешняя резиденция Юста. Вдоль набережных тянутся нарядные виллы и магазины. Но в Тивериаде есть и много бедняков — рыбаки и лодочники, грузчики и фабричные рабочие. Богачи в Тивериаде — это греки и римляне, а пролетарии — это евреи. Работать надо много, налоги высоки, а в городе еще острее, чем в деревне, бедняк ощущает, чего он лишен. В Тивериаде много недовольных. Во всех трактирах можно услышать речи бунтовщиков против римлян и царя Агриппы, который с ними заодно. Оратором и вождем этих недовольных является тот самый Запита, секретарь товарищества рыбаков. Он ссылается на слова Исайи: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю!»[74]
Юст всеми силами старается сдерживать движение, но его власть ограничена тивериадской городской территорией, и он не может помешать тому, чтобы союз обороны, возглавляемый Запитой, создал себе опорные пункты в остальных частях Галилеи и чтобы к нему стекалось все больше людей из этих районов.
Иосиф видит не без удовольствия, как приверженцы Запиты становятся все сильнее и как его банды все растут, даже на территории, непосредственно подчиненной иерусалимскому правительству. Люди Запиты требуют от областей, подвластных Иосифу, чтобы они делали взносы для национального дела, устраивают в случае отказа карательные экспедиции, весьма смахивающие на разбой и грабеж. Полиция Иосифа вмешивается редко, его суды мягко обходятся с виновными.
Иосифа охватывает бурная радость, когда к нем; приходит Запита. Галилея начинает доверять Иосифу, Галилея приходит к нему. Теперь — он чует это — уже недалек тот час, когда он выманит Юста из его надменной замкнутости. Но он мудро скрывает свою радость. Он разглядывает Запиту. Это сильный человек, чрезмерно высокий, одно его плечо выше другого. У него трясущаяся раздвоенная борода, маленькие горящие фанатизмом глазки. Иосиф разговаривает с ним, договаривается, они понимают друг друга с полуслова. Столковаться с Запитой легче, чем с Юстом. Они ничего не записывают, но, когда Запита уходит, оба знают, что между ними заключено соглашение более действительное, чем обстоятельный договор. Те из людей Запиты, кто уже не чувствует себя в безопасности в Тивериаде, спокойно могут бежать на территорию Иосифа; тут к ним отнесутся снисходительно. А Иосиф пусть не тратит столько сил на выжимание денег для военных нужд из скряги Янная: то, в чем ему откажет Яннай, он получит от Запиты.