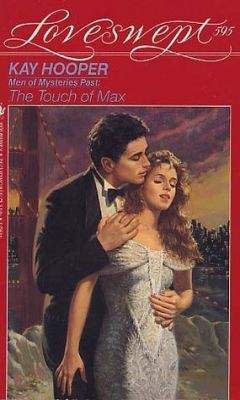Виктор Гюго - Отверженные (Перевод под редакцией А. К. Виноградова )
— Малыш Жервэ! Малыш Жервэ!
Без сомнения, если бы ребенок и услышал его, то от испуга ни за что бы не показался. Но, вероятно, он был уже далеко. Жан Вальжан встретил священника, ехавшего верхом.
— Господин кюре, не встречали ли вы мальчика? — спросил у него Жан Вальжан.
— Нет.
— Мальчика по имени малыш Жервэ.
— Я не встречал никого.
Он вынул из ранца пять франков и подал священнику.
— Господин кюре, возьмите это для ваших бедных. Господин кюре, этому мальчику лет десять, он, кажется, с сурком и с волынкой. Это прохожий. Один из странствующих савояров.
— Я не видел никого.
— Малыш Жервэ… Не из здешних ли он деревень? Не можете ли вы сказать мне это?
— По всему, что вы мне говорили, друг мой, вероятно, этот ребенок не из здешних. Странствующих детей никто не знает в стране.
Жан Вальжан порывисто вытащил из своей мошны еще два пяти-франковых и подал священнику.
— На бедных, — сказал он. — Господин аббат, прикажите арестовать меня, я вор.
Священник погнал лошадь и ускакал, сильно струсив. Жан Вальжан побежал в ту сторону, куда направился первоначально.
Он пробежал таким образом значительное расстояние, кричал и звал, но никого уже не встретил. Два или три раза он принимался бежать к предмету, казавшемуся ему издали присевшим или лежавшим ребенком; но это оказывалось или кучкой хвороста, или камнем, выступившим из земли. Наконец, на перекрестке трех дорог он остановился. Взошла луна. Он всматривался в даль и крикнул в последний раз: «Малыш Жервэ! Малыш Жервэ!» Голос замер в тумане, не вызвав даже эхо. Он проговорил еще раз: «Малыш Жервэ!», но уже глухо, слабо. Это было последним усилием. Ноги его внезапно подкосились, словно невидимая сила сломила его под тяжестью нечистой совести. Он упал, в изнеможении на большой камень, прижав кулаки ко лбу, и крикнул, припадая лицом к коленям: «Я негодяй!»
Сердце его дрогнуло, и он заплакал первый раз за последние девятнадцать лет.
Жан Вальжан ушел от епископа, как мы уже сказали, в состоянии, далеком от всего, что входило до сих пор в его внутренний мир. Он не мог дать себе отчета в том, что с ним происходило. Его возмущали ангельский поступок и кроткие слова старика: «Вы обещали мне сделаться честным человеком. Я покупаю вашу душу. Изгоняю из нее духа зла и вручаю ее Богу». Эти слова постоянно раздавались в его ушах. Он противопоставлял этой небесной снисходительности гордость, служащую злу как бы крепостью внутри человека. Он чувствовал смутно, что прощенье этого священника было самым сильным нападением, какому он подвергался до сих пор, что очерствение его будет окончательным, если он устоит против этого великодушия. В случае же если он уступит, то придется отказаться от ненависти, копившийся столько лет в его душе поступками других людей и нравившейся ему. Он сознавал, что наступила пора или победить, или остаться побежденным и что борьба, борьба колоссальная и решительная, завязалась между его озлоблением и добротой другого человека.
Все эти проблески мысли заставили его шататься как пьяного. Шагая, с блуждающими глазами, сознавал ли он ясно все возможные последствия того, что с ним произошло в Дине? Слышал ли он таинственный шелест, преследующий и предостерегающий душу в некоторые моменты жизни. Шептал ли ему какой-нибудь голос, что он пережил решительный час в своей жизни и что для него нет середины; что отныне, если он не будет лучшим из людей, то сделается худшим из них, что теперь ему нужно или подняться выше епископа, или упасть ниже каторжника; что, если он решится сделаться добрым, он должен превратиться в ангела, а если захочет оставаться злым, то должен сделаться чудовищем.
Здесь необходимо еще раз вернуться к вопросам, которые мы задавали себе в другом месте: схватывала ли его мысль какие-нибудь, хотя бы смутные, представления об этих вещах? Конечно, как мы уже говорили, несчастье воспитывает ум, но все же сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии осознать все, что мы привели здесь. Если подобные мысли и приходили ему в голову, то это были скорее намеки, чем определенные мысли, и единственным последствием их было страшное волнение, доходившее почти до бреда. По выходе его из безобразного и темного места, называемого каторгой, епископ произвел на него то же болезненное ощущение, какое производит слишком яркий свет на глаза, привыкшие к потемкам. Перспектива будущей чистой и безупречной жизни наводила на него трепет и испуг. Он просто не мог сообразить, куда попал.
Как филина, застигнутого врасплох восходом солнца, каторжника ослеплял вид добродетели.
Одно было несомненно, и несомненно для него самого, это то, что он Уже не был прежним человеком, что в нем все изменилось и что не в его власти было уничтожить тот факт, что епископ произнес слова, тронувшие его. В этом состоянии он встретил малыша Жервэ и украл у него сорок су. Отчего? Он сам не мог бы объяснить этого; было ли то последним действием и как бы последним усилием злых помыслов, вынесенных им с каторги, остаток импульса, результат того, что называется в физике приобретенной силой? То было именно это, а быть может, нечто еще более стихийное. Скажем просто, украл не он, не человек, а зверь, по привычке и по инстинкту наступивший ногой на монету, между тем как рассудок боролся с необычайными и новыми мыслями. Когда рассудок очнулся и увидел поступок животного, Жан Вальжан отшатнулся с ужасом и испустил крик отчаяния.
Тут совершилось странное явление, возможное только в том состоянии, в каком он находился, а именно, крадя деньги у ребенка, он сделал вещь, на которую уже не был способен.
Как бы то ни было, но этот последний дурной поступок произвел на него решительное действие; он резко рассек и рассеял хаос, наполнявший его ум, отделив по одну сторону весь сгустившийся мрак, по другую — свет, и повлиял на его душу, при данном его состоянии, как влияют некоторые химические реагенты на мутную смесь, осаждая один элемент и освобождая другой.
В первую минуту, прежде даже чем понять и объяснить себе происшедшее, он растерялся и, как человек, ищущий спасения, старался отыскать мальчугана, чтобы возвратить ему деньги; затем, убедившись, что это бесполезно и невозможно, пришел в отчаяние. В минуту, когда он воскликнул: «Я негодяй!», он увидел самого себя таким, каким он был, и уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему казалось, что сам он призрак, а перед ним стоит во плоти с палкой в руках, в блузе на плечах, с мешком, наполненным краденым добром, с решительным и угрюмым лицом, безобразный и живой человек — каторжник Жан Вальжан.
Избыток горя, как мы уже заметили, довел его в известном смысле до помешательства. У него была галлюцинация. Он действительно видел перед собою Жана Вальжана и его страшное лицо. Он почти готов был спросить, кто этот человек, внушающий ему отвращение.
Его мозг находился в состоянии бурной деятельности, соединенном, однако, с ужасным спокойствием, когда работа мысли настолько глубока, что заслоняет собой действительность. Предметы, находящиеся перед глазами, исчезают, и видишь только те образы, которые движутся в воображении.
Таким образом, если можно так выразиться, он стоял лицом к лицу с самим собой и сквозь галлюцинацию видел в глубоком тайнике души мерцающий огонек, который он принял сначала за светоч. Вглядываясь внимательнее в этот светоч, сиявший в его совести, он различил в нем человеческий облик и узнал в нем епископа.
Совесть его попеременно рассматривала этих двух людей, стоявших перед ней: епископа и Жана Вальжана. Нужно было все могущество первого, чтобы победить второго. В силу одного из странных свойств такого рода видений, по мере того как длилась галлюцинация, епископ вырастал и становился все лучезарнее, между тем как Жан Вальжан бледнел и стирался. Наконец он превратился в тень и внезапно пропал окончательно. Остался один епископ. Он наполнял душу несчастного небесным сиянием.
Жан Вальжан долго плакал. Он плакал горячими слезами, плакал навзрыд, неудержимее женщины и беспомощнее ребенка.
По мере того как он плакал, в мозгу его рассветало и занимался необыкновенный день, восхитительное и вместе с тем страшное просветление. Вся его прошедшая жизнь, первый проступок, многолетнее искушение, его внешнее огрубение, внутренняя зачерствелость, его освобождение и планы мести, происшествие с епископом, последний его поступок, кража сорока су у ребенка, преступление тем более низкое и чудовищное, что оно случилось после прощения епископа, все это вспомнилось ему ясно и проходило перед ним в свете, доселе ему незнакомом. Он взглянул на свою жизнь — и она показалась ему проклятой. Поглядел на свою душу — и она явилась ему ужасной. А между тем мягкий свет освещал эту жизнь и эту душу.
Ему чудилось, что он видит Сатану, освещенного светом рая.