Владимир Солоухин - Последняя ступень (Исповедь вашего современника)
Стреляли без суда и следствия. Не надо было никакого преступления, чтобы быть пущенным в расход. Русский, университетское образование (не говоря уже о дворянском происхождении) — и разговор окончен. Крупный деятель тех времен Лацис учил своих подчиненных: «Не ищите доказательств того, что подсудимый словом или делом выступил против советской власти. Первым вопросом должно быть, к какому классу он принадлежит. Это должно решить вопрос о его судьбе. Нам нужно не наказание, а уничтожение».
Это не только в Москве на Лубянке. Но во всех городах, губернских и даже уездных. Мы теперь содрогаемся — инквизиция. Инквизиция сожгла за все время своего существования несколько тысяч человек. Да ведь это одно какое-нибудь Иваново-Вознесенское отделение ЧК!
А что творилось на Украине? Там все было отдано в руки молодому злобствующему Блюмкину. Это тот самый Блюмкин, у которого произошел известный инцидент с Мандельштамом.
— Какой инцидент?
— Конечно, ваше поколение не знало… Происходила в Москве пирушка, так сказать, победителей. Это только население сидело на голодном пайке, на вобле и на пшенной каше. А они пировали. Лариса Рейснер, сука, жила в особняке, держала слуг и купалась в шампанском. Значит, происходит очередной шабаш. Целый день убивали, убивали, убивали, надо же разрядиться. На шабаше присутствовал крупный чекист Блюмкин. Там же оказался поэт Мандельштам (кстати, спросим в скобках: каким образом оказался прогрессивный поэт в компании с чекистами? Наверное, Блок, Гумилев, Есенин не могли бы туда попасть?). Говорю — пир победителей. Пьяный Блюмкин расхвастался, вытащил пачку пустых ордеров на расстрел, заранее подписанных Дзержинским, и начал ими размахивать. «Вот здесь вся русская культура. Вот список…» И начал тут же из списка наугад заполнять ордера. Мандельштам будто бы не вытерпел, отнял у него ордера, разорвал и пожаловался Дзержинскому. Факт исторический.
Блюмкин получил нагоняй, но не за то, что пачками, без суда и следствия расстреливал русскую культуру, а за то, что расхвастался не к месту. Впрочем, какой там нагоняй — посмеялись, наверное, в конце концов. Так вот, этому-то Блюмкину отдали на растерзание всю Украину, и в первую очередь Киев.
Короленко сидел в Полтаве. Тихий городок. Вишни, ставочки, гуси на улице. Знает или нет ваше поколение, что существуют письма Короленко к Луначарскому?[19]
Мы сейчас спрашиваем иногда сами себя, как отнеслись бы к революции и к послереволюционным событиям такие подпиливатели и размыватели России, как Герцен, Чернышевский, Чехов? Не знаем. Вероятно, ужаснулись бы. Нет, знаем. Потому что Короленко успел увидеть и отреагировать. Тоже ведь — царский ссыльный. Борец. Демократ. Достаньте где-нибудь эти письма. Кровь и слезы. Он просит Луначарского остановить террор, прекратить пролитие крови. Какая наивность, какая святая простота. Он пишет, что тюрьмы забиты и что люди исчезают, а родным говорят: «Увезли в Харьков» (Харьков был тогда главным городом Украины). «Но все уже знают, — пишет Короленко, — что значит „увезли в Харьков“».
Там шесть писем. Целая книга. И где же все это происходит? В Миргороде. В маленьком тихом городке. Что же происходило в самом Харькове? Что происходило в Астрахани, Саратове, в Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде? Что же происходило, можете вы себе представить, в Петербурге и в Москве?
Мы упомянули про Белу Куна. Герой венгерской революции. Есть книга о нем в серии «Жизнь замечательных людей». Но отчего-то там ничего не написано, что на его совести более семидесяти тысяч русских солдат и офицеров — только в одном Крыму. Правда, орудовал он вместе с Землячкой. Как только врангелевская армия ушла из Крыма, Бела Кун и Землячка оказались там с особой миссией. Многие русские офицеры из любви к России, к родной земле не захотели уезжать за границу. Будь что будет, остались на родине. Вышло предписание крымских революционных властей: «Всем офицерам зарегистрироваться на предмет их трудоустройства». Русские доверчивые дурачки обрадовались, толпами пошли регистрироваться. Их всех собрали и расстреляли. Около семидесяти тысяч. Сразу. Можете себе представить картину? А сделали это Землячка и Бела Кун.
Но, конечно, высшим актом бесчеловечности, жестокости, кровожадности было убийство царской семьи. Об этом кровавом событии написано много книг. Известно, что через неделю после убийства Екатеринбург заняла русская армия. Полковнику Соколову было поручено произвести расследование злодеяния. Существует его подробный отчет (по горячим следам), занимающий объемистый том. Есть воспоминания Жильяра, учителя французского языка, который находился вместе с царской семьей почти до последних дней. Есть множество и других книг, воспроизводящих событие в мельчайших подробностях. Сейчас принято все сваливать на местную парторганизацию, на какого-то Белобородова, не то Беловодова. Будто бы при приближении русской армии местная партийная организация своей властью, не спросясь центра (было, де, некогда), решила ликвидировать царскую семью, боясь ее освобождения Колчаком. Это все вздор. Во-первых, ее могли бы из Екатеринбурга увезти в любой другой город России. Но вообще-то, когда семью перевезли из Тобольска в Екатеринбург и поселили в доме Ипатьева, назвав этот дом «Домом особого назначения», ее судьба уже была решена. Заметьте, все у них было «особого назначения». Лагерь особого назначения, дом особого назначения, части особого назначения, то есть ЧОНы, карательные латышские отряды. Но всегда за этим словом скрывалось только одно — смерть, кровь, противозаконие, без суда и следствия массовые убийства.
В Екатеринбург из центра были посланы с тайной миссией два отъявленных мерзавца — Юровский и Войков. Им-то и было поручено подготовить, а в удобный момент и осуществить ликвидацию царской семьи. Инструктировал Юровского лично Яков Михайлович Свердлов.[20] Случайно ли, что и город Екатеринбург называется теперь именем этого кровавого палача? Юровский сменил в доме особого назначения всю охрану (еще бы, до его приезда царь с этими солдатами играл в шашки) и поставил свою, конечно, латышей. И в ночь с шестнадцатого на семнадцатое июля 1918 года совершилось кровавое злодеяние.[21]
Их разбудили в два часа и предложили спуститься подвал. Войков начал читать постановление Екатеринбургского губкома, а Юровский, не дождавшись конца чтения, вынул наган и начал стрелять. Впоследствии Войков, пьяненький, кричал, что простить не может Юровскому, что тот не дождался конца чтения документа и не дал возможности ему, Войкову, собственной рукой застрелить русского императора.
Их было там четыре царевны, наследник царевич Алексей, четырнадцатилетний мальчик, царица, приближенные. Их стреляли, докалывали штыками. Увезли на грузовике в лес, в заранее приготовленное место, и там, как мясники, расчленяли трупы, жгли их на костре, применяли, кажется, даже и химию. Войков не зря был выбран на это дело. Он кое-что понимал в химии и как специалист мог пригодиться.
Так вот, Владимир Алексеевич, я отвлекусь. Этот Войков, ночной убийца, палач, был потом советским послом в Варшаве. Русские людишки, видимо, знали о причастности его к убийству государя и вскоре там его кокнули. Поделом.
Так кто же написал рыдательные стихи на смерть этого подонка? Ваш любимый поэт Владимир Владимирович Маяковский. «Зажмите горе в зубах тугих, волненье скрутите стойко, сегодня пулей наемной руки убит товарищ Войков».
Вопрос… Мог ли не знать Маяковский о причастности Войкова к убийству? Не мог. Маяковский общался с Бриками, а Ося был следователем ЧК. Значит, он сознательно рыдал по убийце государя, по убийце невинных детей и женщин. Каковы поэтические нравы! Найдем ли мы во всей мировой литературе другой пример, когда поэт (поэт!) воспевал бы убийцу, причем не какого-то там косвенного, нет, прямого, стрелявшего и разрезавшего на куски детей и женщин?
— Но почему разрезали и жгли, чтобы не оставалось даже и пепла?
— Всякое тайное, подлое убийство сопровождается заметанием следов. Кроме того, они боялись народа. Больше объяснить нечем. Они, захватившие власть и организовавшие чудовищный террор, чтобы эту власть удержать, прекрасно чувствовали потенциальную враждебность масс, всей притихшей, огромной, дышащей на них холодом, словно айсберг, России. Иначе чего же они боялись? Ведь и сообщение в газетах опубликовано было не в тот же день. Соображали, как сформулировать, как лучше преподнести, как ввести народ в заблуждение. Знали кошки, чье мясо съели. Я спрашивал, собирал сведения у пожилых людей. Мужики плакали, русские люди в разных городах плакали. Но то, что весь русский народ, понимаете, весь, весь, не поднялся сразу, как один человек, узнав о злодеянии, и хотя бы с вилами и топорами не двинулся на Москву, где заседали преступники оккупанты, это его позор, его предательство, за которое в последующие годы он заплатил десятками миллионов жертв, десятилетиями разнузданного насилия над собой, десятилетиями фактического рабства и унылой, серой, пайковой жизни, которая продолжается и до сих пор. Жестокая формула: «Народ имеет то правительство, которое он заслуживает».
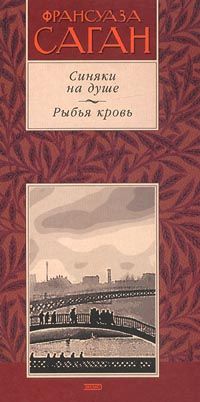


![И Печальный - Геймер[СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
