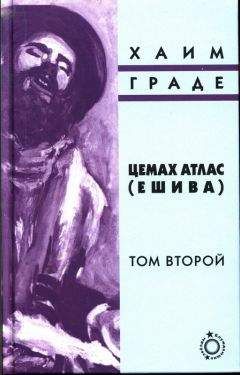Хаим Граде - Немой миньян
Тем временем дела пошли еще хуже, и отец тоже умер. Она тогда уже не держала лавку, она носила по улицам горшок с бабками — картофельное пюре с бобами и тертым горохом, которое бедняки мажут на хлеб. Поскольку она была добытчицей, к ней стали клеиться пожилые евреи с Синагогального двора. За одного из них она вышла замуж. У него была дочь старше нее и взрослые внуки. Рехил ему сказала: «Хорошо, реб Зелик, я выйду за вас замуж. Мой отец умер, буду вас содержать». Старичок ей очень нравился своими благородными белыми ручками, маленьким носиком и белоснежной бородкой. Он имел обыкновение постоянно приплясывать и хлопать в ладоши, как на праздник Симхат-Тора[77]. Они поженились, и он ходил веселый, а она плакала. Он ее спрашивает: «Почему ты плачешь?» Она ему отвечает: «Как мне не плакать? Ты мог бы быть братом моего отца, а ты мой муж. Я тоскую по своему первому мужу, мы были одного возраста, мы бы до сих пор были счастливы».
Когда она так говорила, Зелик переставал приплясывать и хлопать в ладоши. Но на завтра-послезавтра он снова был весел, думал, что она уже забыла. Вот и получается…
Столяр Эльокум Пап выструган из жесткого дерева. Он видит, что старуха не перестает молоть языком, как мельница, и снова берется за работу. Но вержбеловский аскет реб Довид-Арон Гохгешталт не может этого больше выносить. В своем дальнем углу он не слышит, о чем говорит старуха, но ее голос дырявит ему мозги. Он подбегает быстренькими шажками и аж трясется от возмущения.
— Пулемет! В Немом миньяне не кричат! — кричит он сам как одержимый. — Какое отношение вы имеете к Немому миньяну?
— Она имеет отношение к Немому миньяну, — небрежно откликается Эльокум Пап, продолжая заниматься своей резьбой. — Эта женщина снимает на Грозные Дни целый стол для женщин, которые не умеют молиться, — она будет за них читать молитву.
Столяр говорит все это вполне вежливо, но вержбеловский аскет отстраняется от него, и его глаза наполняются страхом, словно он узнал черта, поселившегося в человеческом доме и приведшего за собой других чертей. Как только подбежавший аскет отступает, глухая Рехил продолжает с того места, на котором она остановилась: вот и получается…
— Тихо! — кричит с другого конца бейт-мидраша реб Тевеле Агрес. Но чтица не слышит его и рассказывает дальше:
Вот и получается, что она вдруг узнает, что ее первый муж, Ицхокл, живет в Старой Вилейке и остался вдовцом с детьми. Говорит она своему миленькому старичку, чтобы он ей дал развод. Кричать и топать ногами реб Зелик не умел, он ведь был добрый и благородный. Вот и говорит он ей с умом: «Даже если бы этот вдовец хотел взять тебя в жены, он не должен на тебе жениться, потому что у тебя после него был другой муж». Ее как громом пришибло! Она что-то слыхала про такой закон, но не думала, что это из тех строгих законов, которые обязательно нужно соблюдать. Впрочем, она всегда была упрямицей. Вот она и думает себе: за второго мужа отец выдал ее против ее воли, а с ребом Зеликом она в общем-то не живет. Он ведь мог бы быть братом ее отца. Вот она и говорит ему: «Если мне нельзя выйти замуж за Ицхокла, я буду ему как дальняя родственница и буду кормить его сироток. А что я у тебя? Не больше, чем прислуга». Она слыхала, что ее первый муж и в Новой Вилейке остался нерелигиозным. Была у нее задняя мысль, что если ему будет неважно, чтобы все было по закону, ей это тоже будет неважно. Так далеко уже зашла власть Нечистого над ней. Она снова говорит старику: «Знаешь, почему Тора запретила женщине выходить замуж за своего первого мужа, если у нее после него был другой муж? Тора знает, что женщина любит первого и ее тянет к нему. Так вот, чтобы она ради первого не развелась со вторым и дети от второго не остались ни с чем, Тора и не дает ей вернуться к первому. Но у меня с тобой детей не было, и я с тобой все равно разведусь». Он стал плакать и уговаривать: «Я уже старый человек, скоро я умру. Погоди, пока я умру. Тогда сможешь делать, что хочешь». Она ему отвечает: «Зачем тебе умирать скоро. Живи долго у своих детей, а мне дай развод». И так она требовала, пока не заполучила свои разводные двенадцать строк. К этому приложили руку его дочери. Они кричали, что пусть он лучше даст ей развод, чем она загонит его в могилу.
Эльокум Пап замечает, что слепой проповедник реб Мануш Мац в своем углу напротив с интересом прислушивается к тому, как эта еврейка исповедуется в грехах. Поскольку прислушивается проповедник, столяр прекращает вырезать надпись «шивити» и тоже начинает слушать внимательнее.
Рехил — глухая чтица продолжает рассказывать с напевом «Сейфер тхинес»[78], что после того, как она развелась с третьим мужем, он от великого огорчения заболел. Его дети хотели забрать его к себе, но он ушел в богадельню. Она тогда не слишком из-за этого расстроилась, так она была занята прихорашиванием перед поездкой в Старую Вилейку к своему первому. Приехав в Старую Вилейку, она спросила об Ицхокле-бухгалтере, потому что слыхала, что ее первый муж стал бухгалтером. Войдя в его дом, она сразу увидела, что у него бледное, недовольное и болезненное лицо и что его волосы поседели и стали похожи на куриные перья, высыпающиеся из старых подушек. Он не узнал ее и после того, как она сказала ему, кто она. Он как раз собирался зажарить яичницу из, наверное, двенадцати яиц для своих детей, шумевших во второй комнате. Она говорит ему: «Как это получается, Ицхокл, что ты меня все еще не узнаешь? Я ведь была твоей первой женой, а твоя вторая жена пусть будет в раю заступницей за тебя и за твоих детей. Дай мне сковородку, я приготовлю яичницу. Мужчина не должен заниматься такими вещами». Он смотрит на нее недружелюбно и говорит ей: «Что вы предлагаете?» И Рехил рассказала ему, как она по нему тосковала, и сказала, что из-за него развелась с двумя мужьями. Как только она заговорила об этом, он прикрыл дверь во вторую комнату, чтобы дети не слышали. Она сказала ему, что хочет быть нянькой при его сиротах. Он очень невежливо рассмеялся и ответил, что ему обещали сватовство с женщинами побогаче, покрасивее и помоложе. Тогда она совсем растерялась и сказала ему: «Когда мой отец разлучил нас, вы были этим очень расстроены». Он снова отвечает: «Что было, то было. Для меня в одной жизни два раза жениться более чем достаточно». А прежде чем она ушла из его дома, он сказал кое-что похуже: «Если бы у вас были дети, у вас бы не было на уме таких глупостей». Она ушла от него со склоненной головой, заплаканная и опозоренная. Ведь с ним она прожила только два года, не больше. Второго она не любила, а ее третий был стариком. Так откуда же можно было узнать, что она бесплодна?
— Женщина, зачем мне это знать? — хватается за голову столяр Эльокум Пап и кричит ей в ухо: — Все, что вы рассказываете, полное вранье. Как вы могли услышать, что вам говорил тот и этот, если вы глухая как стенка?
Рехил кивает головой и ее добрые, светлые глаза удивленно смотрят на резчика: почему это его лицо искажено гневом? Тут влезает слепой проповедник и просит резчика, чтобы он не злился на старуху: «Я знаю ее, это праведная женщина». Эльокум Пап питает уважение к проповеднику. Но он все-таки хочет понять, как эта еврейка может вести для женщин молитву, если она ни слова не слышит? Откуда ей знать, в каком месте молитвы находится кантор?
— Она же когда-то слышала. Поэтому она выглядывает в мужской бейт-мидраш и по тому, как молящиеся стоят, или сидят, или раскачиваются, понимает, в каком месте молитвы они находятся. Она видит, когда вынимают из священного ковчега свитки Торы и когда их укутывают в чехлы перед трублением в шофар. — Слепой проповедник поучает столяра мягким голосом: — Не беспокойтесь за нее. Нет никакой необходимости, чтобы ее молитвы на идише для бедных женщин полностью совпадали с молитвой в мужском бейт-мидраше. На небесах есть особые врата для молитв глухих и слепых.
Эльокум Пап потирает пальцами, чтобы еврейка поняла, что он говорит о цене. Потом он показывает ей растопыренные пальцы правой руки, добиваясь ответа, когда же она заплатит. Глухая Рехил понимает и отвечает с добродушным смехом: пусть синагогальный староста не беспокоится, она еще никого не обманывала. Накануне Судного Дня она, если будет на то Божья воля, заплатит по числу женщин, для которых она будет вести молитву.
— Тогда ладно, — бормочет Эльокум Пап и прячет в полотняный мешок незаконченное украшение для пюпитра бимы. Столяр собирается домой. Надо быть сумасшедшим, чтобы остаться здесь и продолжать слушать эту чтицу. Проповеднику хорошо, он слепой, он не видит, что это просто смех. Старая еврейка с морщинистым лицом исповедуется в своих давних грехах. Она думает, что перед Грозными Днями ей следует раскаяться. Лучше бы она уже молчала.
Глухая Рехил не собирается исповедоваться, она говорит просто так, ничего особенно при этом не думая. Поэтому когда Эльокум Пап выходит из бейт-мидраша, а слепой реб Мануш Мац нащупывает путь назад в свой уголок, чтица идет за проповедником и выпевает на мотив «Сейфер тхинес»: она не жалуется, она заслужила палки. Что он за человек, этот синагогальный староста-резчик? В объявлении, которое висит в Синагогальном дворе, сказано, что кто хочет снять место в молельне Песелеса на Грозные Дни, должен обращаться к старосте и резчику Эльокуму Папу. Поэтому когда она вошла в молельню и увидала человека, сидящего и занимающегося резьбой, она сразу поняла, что он то и есть синагогальный староста из объявления. Но он совсем не дает говорить. Так где же она остановилась? Да, вернувшись из Старой Вилейки в Вильну, она отправилась в богадельню к старичку, с которым развелась. «Зелик, — говорит она ему, — я согрешила против Бога и против тебя. От моего первого ничего не осталось, разве что имя у него то же, что и прежде». «Теперь, Зелик, — говорит она ему, — ты снова можешь на мне жениться. Ты не коэн и тебе позволительно взять назад свою бывшую жену[79], потому что я больше ни за кого замуж не выходила». Он ей отвечает: «Не надо, я уже скоро умру». От его слов у нее сердце разрывалось. Она ведь знала, что она виновата. Она принялась плакать: «Я все равно от тебя не отступлюсь». Так она и сделала. На свои заработки она покупала и готовила для него самое лучшее, и фрукты тоже покупала: мягкие яблоки, груши, даже виноград — и каждый день бежала к нему в богадельню. Самой большой ее радостью было кормить его, перестилать постель и выводить куда надо, а потом сидеть рядом и отражаться в его лице. Он лежал беленький, чистенький, как свежевыпавший снег. Старик за едой обливается, забрызгивает себя, но не Зелик. Его бородка светилась ясным серебром, его руки были мягкими и гладкими, как парча. Но веселость ушла от него, он больше не хлопал в ладоши, как во время плясок на Симхат-Тора. Он всегда говорил ей мудрые речи с большой дружелюбностью. Она слушала его мудрые речи и не могла себя понять, зачем она нанесла ему такую обиду из-за своего первого мужа? Чего этот первый достиг, с позволения сказать? Он читал свои нерелигиозные книжки, пока не стал бухгалтером. Судя по его кислой физиономии в среднем возрасте, трудно было ожидать, что на старости лет он будет иметь такое светлое лицо, как ее старичок. Только одно событие стоило ей здоровья: когда его навестили в богадельне дальние родственники, которые не слишком много знали о его жизни, и спросили его: «Это ваша жена, реб Зелик?», а он пробормотал что-то неопределенное и неразборчивое, словно стыдился ее. Она знала, что он не виноват, она ведь его бывшая, а не настоящая жена. В конце концов он умер.