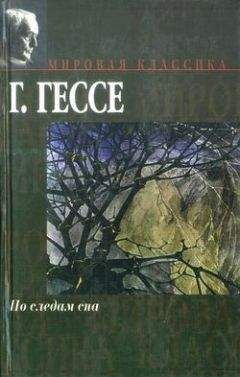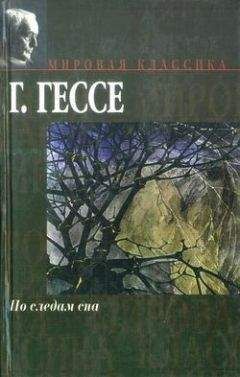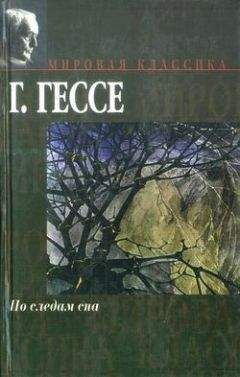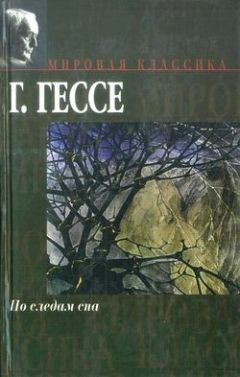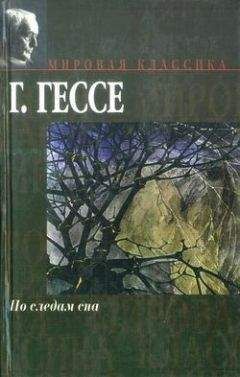Герман Гессе - Поздняя проза
Все же я должен стоять на том, что говорит мне моя память, и защищал бы это от всех кажущихся опровержений. Но как своеобразно посрамляет, как смущает нас каждая встреча с нашей скрытой жизнью, с теми силами, которые потешаются над нашим разумом, нашим сознанием, нашей памятью, по-диктаторски распоряжаясь нашей способностью помнить и забывать! На какие бы лады я ни сопоставлял друг с другом обе картины, оставшиеся в памяти от нашей встречи, обе они донельзя ясно и с какой-то насмешкой показывают мне, как отличаемся мы от самих себя и от того, какими видят нас наши ближние. Вот я провел день или два с милым, случайно встретившимся снова товарищем юности, и как же мы оба, не желая того и не подозревая о том, разыгрывали друг перед другом спектакль, как же мы лгали себе и друг другу! Для меня Мартин был свежим, цветущим, краснощеким мальчуганом с нормальной, может быть, несколько бюргерской температурой души, и, может быть, именно это соблазнило меня представить ему свое житье и свое тогдашнее настроение весьма интересными, веселыми и завидными, тогда как на самом деле меня очень угнетали проблемы моего писательства, моего недавнего брака и моего намеренно небюргерского быта. А он в свою очередь позволил поразить себя и ослепить, он задним числом даже разукрасил приключение своей поездки к Гессе всяческими добавками, он так же успешно утаил от меня свои тяжелые проблемы, заботы и неуверенность, как я от него свои, и умудрился затем начисто забыть выплеск этих горестей в приступе с виду тяжелого физического недуга. Столь несходно повлияли на нашу память по части поездки в Гайенхофен и привели к двум столь отличным друг от друга рассказам о ней одни и те же у него и у меня причины и силы, это были конфликты в его душе и в моей и потребность не слишком отчетливо видеть эти конфликты самому и тем более не дать их увидеть товарищу. Как я превратился в памяти Мартина в счастливого феака и бедового парня, так он превратился в моей в милого, бесхитростного человека, склонного, к сожалению, к тяжелым желудочным расстройствам.
Но, несмотря на эти глубокие и, в сущности, страшные закавыки, фактом остается то, что мы оба отнюдь не забыли друг друга и что как раз та единственная в нашей жизни серьезная встреча занимала и волновала и его, и меня еще десятки лет спустя. Причина этого интереса, этой неспособности забыть была у нас обоих одна и та же, у него она выразилась, проявилась во внезапной болезни и в стремлении замять, скрыть эту болезнь задним числом, у меня — в нарочито возбужденной и возбуждающей живости и предприимчивости и стремлении вытеснить их задним числом из сознания. Как ни различны внешние наши рассказы об этом, испытывали мы тогда совершенно одно и то же: удрученность неразрешимыми с виду, гнетущими вопросами нашей нравственной жизни и одновременно желание утаить и не замечать эту внутреннюю неурядицу. Если бы каждый из нас не чувствовал у другого за маской наших ролей такого же напряжения, такой же незащищенности, такой же духоты, мы оба способны были бы забыть всю эту историю или, во всяком случае, не придавать ей важности.
Я подошел к концу своего трудного рассказа об одном незначительном с виду эпизоде времен нашей молодости. Тут можно было бы поставить точку. Но надо добавить еще одну деталь, правда, опять такую, когда я должен положиться просто на свою память и не могу ни доказательствами, ни документами помочь недоверию к этой памяти, приобретенному в ходе всего вышеизложенного разбора, помочь нечистой совести, которая должна бы, собственно, мучить всякого автора истории или повествования.
Добавить я должен тот факт, что ведь Мартин написал мне и еще одно, последнее письмо.
С тех пор как он написал, а я прочел его, прошло лет пятнадцать, и, хотя я, несомненно, его сохранил, найти его не удалось, оно должно было бы лежать с тем другим письмом и с извещением о смерти, а их-то было довольно трудно найти.
В этом последнем своем письме ко мне Мартин снова с большой теплотой и проникновенностью вспоминает детство в Кальве, уверенный, что и мне это напоминание придется по душе, в чем он и не ошибся. Но на сей раз он должен сообщить мне нечто особенное и конкретное: он недавно побывал в Кальве! Он совершил мемориально-ностальгическое паломничество в долину и город самой, как ему кажется, счастливой своей поры, справил давно вожделенный, часто намечавшийся, но наконец созревший праздник свидания. Как Кнульп перед кончиной еще раз посещает свой городок и обходит все его переулки и закоулки, так и Мартин совершил путешествие на свою как бы родину и в свое детство, он с бьющимся сердцем въехал в долину Нагольды и увидел старый город, раскинувшийся по склону между лесистыми горами и рекой. То была славная, счастливая затея, он рассказывает мне об этом с благодарностью и блаженством. Улицы, рыночная площадь, школа, фамилии наших бывших учителей и многих товарищей упоминаются с почтением, хвалой и любовью. Описывается также, как паломник находит улицу с домом своего дяди неизменившейся, лишь несколько постаревшей, как он входит в дом, принюхивается к передней и к лестничной клетке, как затем выходит во дворик, где играл в детстве, и с изумлением и растроганностью застает все совершенно таким же, как почти полвека назад. Стояли на месте, чего он никак уж не ожидал, и оба деревянных столба турника, и в одном из этих столбов сидел, десятки лет храня его детскую тайну, гвоздь, который он когда-то туда вогнал.
Баденские заметки
Двадцать пять лет прошло с тех пор, как некий благожелательный врач впервые послал меня лечиться в Баден, и ко времени того первого пребывания на баденском курорте я, должно быть, уже и внутренне созрел для новых переживаний и мыслей, ибо именно тогда возникла моя книжечка «Курортник», которую еще совсем недавно, до самой лишенной всяческих иллюзий старческой горечи, я почитал одной из лучших своих книг и вспоминал о ней всегда с неизменной любовью. Побуждаемый то ли непривычным мне досугом курортной и гостиничной жизни, то ли новыми знакомствами и книгами, я обрел в те летние дни, на полпути от Сиддхарты к Степному волку, особое настроение самоуглубления и самоанализа, настроение созерцателя как по отношению к окружающему, так и по отношению к собственной своей персоне, радость от иронии и игры, радость наблюдать и анализировать сиюминутное, некое равновесие между вялым бездействием и напряженным трудом. И поскольку объекты моих игр, моих наблюдений и описаний — весь этот курортный быт, с его жизнью в гостинице, концертами в курзале и ленивым фланированием по терренкуру — были все же слишком мелки и незначительны, моя страсть к осмыслению и запечатлению вскоре обратилась на другой, куда более важный и интересный объект, а именно: на самого себя, на психологию художника и литератора, на страстность, серьезность и суетность писания как такого, которое, как и все прочие искусства, стремится к невозможному и чьи результаты, в случае удачи, хоть и не достигают того, к чему пишущий стремился и что хотел осуществить, бывают тем не менее прекрасны, забавны и утешительны, как ледяные узоры на окошке натопленной комнаты, из которых мы вычитываем уже не разность температур, а причудливые ландшафты души и волшебные рощи.
Свою написанную тогда книгу о курортнике я за последние двадцать лет перечитывал лишь однажды, с целью подготовки нового издания после периода истребления моих книг, и из этого перечитывания вынес знакомый всем писателям и художникам опыт, что наши суждения о собственных работах вовсе не являются надежными и стабильными; работы эти могут претерпеть удивительные изменения в нашей памяти, уменьшиться или увеличиться, стать лучше или совсем обесцениться. В упомянутом новом издании «Курортник» должен был появиться в одном томе с близким ему по времени и по теме «Нюрнбергским путешествием», и, когда я только приступал к перечитыванию обоих этих произведений, лучшим и более удавшимся мне представлялось как раз «Нюрнбергское путешествие»; и этот приговор, причины которого я уже не мог восстановить, засел во мне так прочно, что я был искренне удивлен и даже разочарован, когда, окончив чтение, вынужден был признать, что на деле все обстоит как раз наоборот и из двух моих автобиографических повестей «Курортник», несомненно, и глубже, и совершеннее по форме. Контраст, согласно моей теперешней оценке, был столь велик, что я даже носился с мыслью вообще исключить «Нюрнбергское путешествие» из нового издания. Во всяком случае, в результате внимательного перечитывания я сделал подлинное открытие: оказывается, два десятилетия назад я мог написать не только нечто вполне искреннее, но также и веселое и приятное, на что сегодня уже более не способен.
Между тем с момента этого открытия вновь протекли годы, у стариков время бежит быстро, и годы старости как бы истираются по сравнению с более прочными и емкими прежними годами, совсем как дешевые ткани из целлюлозы; вот уже двадцать пять лет минуло с тех пор, как я впервые приехал в Баден и написал здесь свои заметки. Впрочем, должен признаться, что всякий раз, когда я вновь оказывался в Бадене, заметки эти причиняли мне немало хлопот, часто случалось, что какой-нибудь сосед-курортник как раз здесь читал эту книгу и заговаривал со мной о ней, а необходимость отвечать на вопросы и поддерживать беседы становилась мне год от году все невыносимей и тягостней. Это стойкое отвращение к беседам, как и вообще голод на тишину и одиночество, безмерно возросло во мне и усилилось в последние годы; я безумно устал, мне приелось быть «знаменитостью», это давно уже не кажется мне ни приятным и ни почетным, а, напротив, стало напастью, и если временами я покидаю свое, прежде столь надежно спрятанное жилище, как, например, для посещений баденского курорта, то я делаю это не в последнюю очередь из страха и отвращения перед непрошеными гостями, которые вечно толкутся перед моей дверью, не реагируют ни на какие просьбы и мольбы о пощаде, прокрадываются вокруг дома и настигают меня даже в самых потаенных и укромных уголках моего виноградника. Они вбили себе в голову, что им непременно следует изловить чудака, застигнуть его врасплох, растоптать его сад и его частную жизнь, поглазеть через окно на его письменный стол и своей болтовней лишить последнего уважения к людям и веры в смысл собственного существования. Этот разлад между мной и миром подготавливался и усиливался в течение ряда лет, но с тех пор, как началось массовое нашествие из Германии, которого мы давно уже ждали, он стал поистине неодолимым бедствием. Сотни вторжений и навязанных мне визитов я выдержал с кисло-сладкой миной, но трижды в течение последнего месяца случалось, что, застигнув посетителя, разгуливающего по моему саду как у себя дома, я взрывался и осыпал его бранью. Никакого терпения не хватит, чтобы все это выдержать; и большому котлу приходит срок закипеть.