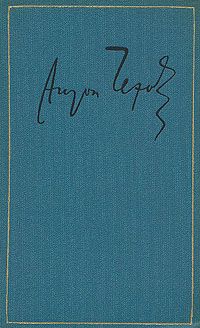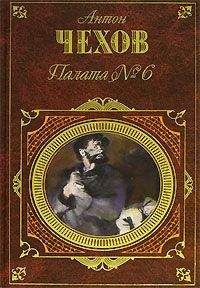Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1888-1891
Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в безвестности, и он рефлективно хватается за карандаш и спешит записать на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие,
114
укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел: «О. П. (то есть оставил память) Иван Корольков 16 мая 1876 года». Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то Кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человечек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, всё это дела не касается… Простите, я не умею рассказывать коротко.
Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу навели меня на то самое мышление, о котором мы только что говорили. Тогда, в конце семидесятых годов, оно начинало входить в моду у публики и потом в начале восьмидесятых стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что всё обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что всё вздор и чепуха и что ну его всё к чёрту! Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить: на, мол, смотри, сила, ставлю жизнь ни в грош, а живу! Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел приготовлять сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца и что мысль моя широка, как море. Ну-с, насколько я могу судить по себе, мышление, о котором идет речь, содержит в своей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества
115
и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посладострастничать мыслями о бесцельной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде: „К чему, спрашивается, родятся и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут…“
И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие, бесцветные жизни и знают, для чего живут… Помню, далеко в конце аллеи показались три женские фигуры. Какие-то барышни – одна в розовом платье, две в белом – шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал: „Хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной!“
Я кстати вспомнил, что у своей петербургской барыни в последний раз я был три недели тому назад, и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней: „Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!“
Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Вуколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, насколько я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли, тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я, сын благородных
116
родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, Blutgeld или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами… Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление в принципе ничего не имеет против этих прав, хороши ли они или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись – все равно умрешь и сгниешь… Во-вторых, судари мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преобладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновение – все заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность, а холодные люди – нечего греха таить – не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня решительно всё равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей Blutgeld, а завтра уж и не помнишь о ней.
Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы (но не с головы до ног, как оглядывают мужчин) и нашел, что она молода, не старше 25 лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности, уже не барышня и принадлежит к разряду порядочных. Одета она была по-домашнему, но модно и со вкусом, как вообще одеваются в N. все интеллигентные барыни.
„Вот с этой бы сойтись… – подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки. – Ничего себе… Должно быть, супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии…“
117
Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было не легко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо. Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже надоели ей и утомили ее зрение; она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянуто-равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины.
Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумалась, и я по ее взгляду понял, что ей не до меня и что я со своею столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил:
– Сударыня, позвольте вас спросить, в котором часу уходят отсюда в город линейки?
– Кажется, в десять, или в одиннадцать…
Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз-другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление… Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу: клюет! Она, точно ее что-то больно укусило, вдруг поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко:
– Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?
– Да, я Ананьев… – ответил я.
– А меня вы не узнаете? Нет?
Я немножко смутился, пристально поглядел на нее и, можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой, усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в которую я был по уши влюблен 7–8 лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой… Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой 15–16 лет, когда она изображала из себя нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви. Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая, – кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса – лицо