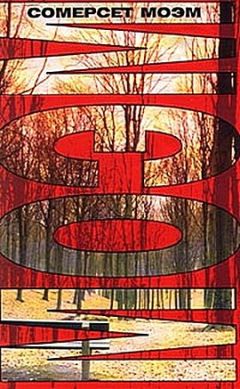Сомерсет Моэм - Сотворение Святого
На ярмарочной площади толпились люди. Временные палатки торговцев стояли рядами, и крестьянки выложили на столах свои товары: овощи и цветы, кур, уток и другую домашнюю птицу, молоко, масло, яйца. В других местах предлагали мясо, масло для фонарей, свечи. Продавщицы широко улыбались, обмахивались желтыми и красными платками, на шеях сверкали золотые цепочки, головные уборы радовали чистотой. В одной руке они держали весы, в другой — миску с медными монетами, перекрикивались друг с другом, торговались, кричали, шутили, смеялись. Покупатели ходили между рядами, смотрели на товары, выбирали нужный, щупали, нюхали, пробовали, всевозможными способами оценивая качество. В толпе бродили продавцы амулетов, талисманов и колдовских снадобий, громко расхваливая свой товар, локтями проталкиваясь между людьми, ругая тех, кто случайно их толкал. Уличные мальчишки носились по площади, сновали между ног, пролезали под повозками, между шатрами, не обращая внимания на полученные пинки и проклятия, которые неслись вслед. Стоило торговцу зазеваться, сорванцы хватали все, что плохо лежит, и со всех ног уносились прочь. Тут же выступал фокусник, лекарь, вынимающий зубы, пел менестрель. Жизнь на площади бурлила.
— С первого взгляда и не видно, что все эти люди — жестоко угнетаемые рабы, — ехидно заметил я.
— Первое впечатление обманчиво, — ответил Маттео, который многое начал воспринимать слишком уж серьезно. Я не раз говорил ему, что такое отношение к жизни может привести его в монастырь.
— Давай развлечемся, — предложил я, взял Маттео за руку и повел в поисках жертвы. Мы остановили свой выбор на торговке дешевыми украшениями, необъятной женщины с тройным подбородком и раскрасневшимся лицом, с которого градом катился пот. Мы пожалели ее и подошли, чтобы утешить.
— Очень холодный сегодня день, — сказал я, на что она раздула щеки и выдохнула. Порыв горячего ветра едва не отнес нас в сторону.
Она взяла со столика бусы и предложила Маттео купить их для своей дамы сердца. Мы начали торговаться, предлагая цену чуть ниже названной, а когда появились признаки того, что торговка готова уступить, сделали ей последнее предложение, еще снизив цену. Она схватила швабру и бросилась на нас, так что нам пришлось спешно ретироваться.
Никогда раньше я не пребывал в столь прекрасном расположении духа. Я предложил Маттео посостязаться — в беге, ходьбе, скачке, — но он отказался, заявив, что я слишком уж разыгрался. Потом мы пошли домой. Кеччо только что вернулся с мессы, молчаливый и серьезный, как палач. Я пожаловался, что никто не хочет говорить со мной, и отправился к детям, которые приняли меня в свои игры, прятки и жмурки, и пробыл с ними до обеда. Ели мы вместе, и рот у меня не закрывался, я болтал обо всем, что только приходило в голову, но остальные молчали, как совы, и не слушали меня, а потому у меня тоже начало портиться настроение…
Мрачность остальных заразила и меня, безрадостные картины, которые рисовало их воображение, появились и перед моим мысленным взором. Слова иссякли, и теперь мы втроем сидели молча. За стол я садился с отменным аппетитом, но и в этом сказалось влияние остальных, так что кусок уже не лез в горло. Мы возили еду по тарелкам, мечтая об окончании обеда. Я ерзал на стуле, Кеччо сидел, обхватив пальцами подбородок, иногда пристально смотрел на меня или Маттео. Один из слуг уронил тарелки. Мы все вздрогнули, а Кеччо еще и выругался: никогда раньше я не слышал от него бранного слова. Он побелел как полотно — не вызывало сомнений, что он сильно нервничал. Я спросил, который час. Оставалось еще два часа. И тянуться им предстояло, похоже, очень долго. Хотелось, чтобы обед поскорее закончился и я мог встать из-за стола. Я хотел пройтись, но, когда трапеза закончилась, ноги вдруг стали такими тяжелыми, что подняться не удалось: я мог только сидеть и смотреть на остальных. Маттео несколько раз наполнял и осушал свою кружку, и когда вновь потянулся к кувшину с вином, заметил, что Кеччо нахмурился, а уголок его рта приподнялся — верный признак недовольства. Маттео убрал руку и отодвинул кружку. Так резко, что она скатилась со стола. Мы услышали, как часы на церкви пробили три. Казалось, нужный нам час никогда не наступит. Мы сидели и ждали. Наконец Кеччо встал и закружил по комнате. Позвал детей. Они пришли, и он заговорил с ними таким хриплым голосом, что они едва могли его понять. Потом, словно испугавшись себя, обнял их, одного за другим, страстно поцеловал, как целуют женщину, и велел уйти. Подавил рыдание. Мы продолжали сидеть. Я отсчитывал минуты. Никогда они не тянулись так долго. Это было ужасно…
Наконец ожидание закончилось!
В половине четвертого мы поднялись и взяли шляпы.
— Пора, друзья мои! — Кеччо облегченно выдохнул. — Худшие наши беды теперь позади.
Мы последовали за ним. Я обратил внимание, что кинжал, украшенный драгоценными камнями, при нем, и время от времени Кеччо брался за рукоятку, словно хотел убедиться, что оружие на месте. Мы шли по улицам, и люди приветствовали нас. Подошедший нищий попросил милостыню, и Кеччо дал ему золотой.
— Да благословит тебя Бог! — воскликнул нищий.
И Кеччо горячо его поблагодарил.
По узким улицам мы шли в тени, но, когда обогнули последний угол, солнце ударило нам в лицо. Кеччо на мгновение остановился и раскинул руки, словно хотел обнять солнечные лучи, потом повернулся к нам и широко улыбнулся:
— Добрый знак!
Еще несколько шагов привели нас на площадь.
Глава 23
Среди слуг графа был Фабрицио Торниелли, кузен д’Орси по материнской линии. Кеччо сказал ему, что хочет поговорить с Джироламо о деньгах, которые ему одолжил, и думает, что лучше всего сделать это, когда граф пребывает в одиночестве после обеда, а обедал правитель Форли всегда в три часа пополудни. Но Кеччо требовалось точно знать, что граф один, вот он и попросил кузена подать ему знак, когда он придет… Фабрицио согласился, и мы договорились, что будем прогуливаться по площади, пока не увидим его. Все наши друзья тоже прибыли на площадь, и мне казалось, что они разительно отличаются от остальных. Я даже удивился, что люди не останавливают нас и не спрашивают, что стряслось.
Тут одно из окон дворца распахнулось, и мы увидели стоящего за оконным проемом Фабрицио Торниелли, который смотрел на площадь. Мы получили свой шанс. Мое сердце забилось так яростно, что мне пришлось поднести руку к груди, чтобы чуть успокоить его. Помимо меня и Маттео Кеччо взял с собой во дворец Марко Скорсакану, Лодовико Пансекки и Шипионе Моратини. Кеччо коснулся моей руки, и мы медленно поднялись по ступенькам, а остальные шли следом. Глава семьи д’Орси, как тогда говорили, имел золотой ключ, то есть мог пройти к графу в любое время. Стражник у двери отсалютовал нам, не задав ни единого вопроса. Мы поднялись в личные покои Джироламо, и слуга впустил нас. Оказались в приемной и увидели большую дверную арку, задернутую портьерой.
— Подождите меня здесь, — распорядился Кеччо. — Я пойду к графу.
Слуга откинул портьеру, Кеччо прошел, портьера за его спиной вернулась на прежнее место.
Джироламо стоял, облокотившись на подоконник. Он протянул Кеччо руку.
— Кеччо, как ты?
— Все хорошо. А вы?
— Мне всегда хорошо, когда я среди своих нимф.
Он обвел рукой фрески на стенах. Их автором был знаменитый художник, и они изображали нимф, бегающих, прыгающих, купающихся, плетущих венки и приносящих жертву Пану. Собственно, комната эта так и называлась — Кабинет нимф.
Джироламо огляделся с довольной улыбкой.
— Я рад, что все наконец-то закончилось. Восемью годами раньше здесь были только каменные стены, а теперь все выкрашено и отделано, так что я могу сесть и сказать: «Работа закончена».
— Такой работой можно гордиться, — кивнул Кеччо.
— Ты представить себе не можешь, Кеччо, как я этого ждал. Раньше я всегда жил в домах, которые строили и отделывали другие люди, и они жили в них до меня. Но этот дом я построил по своему вкусу. Я контролировал каждый этап строительства и могу сказать, что это действительно мой дом.
Он помолчал, оглядывая комнату.
— Иногда, казалось, я с головой уходил в строительство, потому что не было у меня более приятного времяпрепровождения. Удары молотка плотника, стук мастерка каменщика музыкой звучали в моих ушах. В законченности всегда есть привкус меланхолии. В тот момент, когда заканчивается строительство дома, начинается его разрушение. Кто знает, сколько пройдет времени, прежде чем эти картины сползут со стен, да и сами стены обратятся в пыль?
— Пока ваша семья будет править в Форли, этот дворец сохранит свое великолепие.
— Да, и, я уверен, если семья будет поддерживать дом, то и дом будет поддерживать семью. Я чувствую, что все сильнее укореняюсь в Форли, становлюсь с городом единым целым. И я полон надежд, потому что еще молод и силен. Впереди еще добрых тридцать лет жизни, а за тридцать лет можно многое сделать. И мои дети, Кеччо! Каким славным для меня будет день, когда я возьму сына за руку и скажу ему: «Ты уже взрослый и сможешь удержать скипетр после того, как смерть заберет его из моей руки». Этот дворец будет хорошим подарком, который я ему оставлю. У меня столько планов. Форли станет богатым и сильным городом, а его правитель не будет опасаться соседей: и папа, и Флоренция будут искать его дружбы.