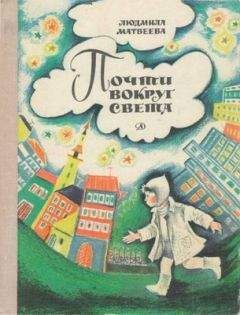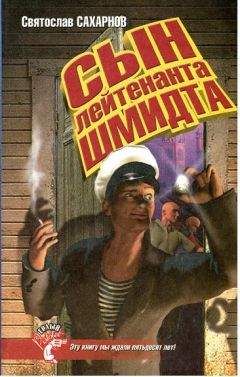Фрэнк Харрис - Бомба
Я отпустил ее. В конце концов, у меня не было права ничего требовать от нее, у меня не было права ее ласкать. Не было права! В любой момент Лингг мог призвать меня, и я бы не отказался. Все надежды на любовь и счастливую жизнь с Элси потонули в захлестнувшей меня черной волне страха. Нет, надо быть осторожнее, и я больше не посягал на Элси, хотя это дорого мне стоило. Я уже обратил внимание, что с каждой лаской, какой бы невинной она ни была, Элси все больше уступала мне. Однажды показав мне свои ручки, она уже не могла отказать мне в этом в следующий раз. Короче говоря, ей становилось все труднее отказывать мне в чем бы то ни было, ибо она тоже любила меня и желала изо всех сил. Несмотря на мое решение не заходить слишком далеко, чтобы ни в коем случае не скомпрометировать Элси, мы катились по наклонной плоскости, с каждым разом оказываясь все ниже и не имея сил повернуть назад. Не знаю, понимала ли Элси все это так же ясно, как я; теперь мне иногда кажется, что она даже лучше меня понимала, куда нас это может завести.
Однако в тот день, и мне приятно об этом думать, я решительно обуздал свою страсть и не уступил терзавшему меня желанию. Если бы Элси одарила меня своей нежностью за испытанные страдания, я бы не свернул с узкой и трудной тропы. Но она этого не сделала. По-видимому, она решила, что я обиделся, и надулась сама в ответ на мою неожиданную холодность. Устоять я не мог и добродушно поцеловал ее, возблагодарив провидение за то, что апрельское солнце не долгое и нам пора двигаться обратно.
По дороге домой Элси была мила со мной, и, целуя ее на прощание, я пообещал встречаться с ней по-прежнему и проводить с ней больше времени, чем мне удавалось прежде. Похоже было, что наши твердые решения подвергались тяжелому испытанию.
Когда я остался один и получил возможность рассуждать здраво, то постарался быть честным с самим собой. Бог свидетель, я не хотел стать причиной страданий любимой женщины; и все же с каждым следующим свиданием мы с Элси приближались к тому моменту, после которого возврата не будет, потому что исчезнет последняя завеса и случится неизбежное. Все мои неохотные старания сопротивляться течению, которое несло нас, говорили только о том, каким сильным, неодолимым это течение было. Наконец я решился и в субботу вечером написал Элси письмо, в котором отменил воскресное свидание под тем предлогом, что мы «должны быть разумными». На другое утро, не успел я выйти из дома, как получил от Элси взволнованную записочку с просьбой зайти к ней в любое время. Если я очень занят, то могу прийти к ужину или даже после ужина, или позже, просто чтобы пожелать ей «спокойной ночи». Она, мол, будет счастлива, зная, что я приду, а иначе время будет тянуться медленно и ей будет очень одиноко...
Конечно, я не устоял и тотчас сообщил ей, что, как только разделаюсь со срочной работой, повезу ее с матерью покататься, и заодно мы где-нибудь пообедаем.
О матери Элси я вспомнил лишь как о возможном препятствии, как о щите между нами; но я склонен думать, что присутствие матери лишь подначивало Элси еще откровеннее демонстрировать свою любовь ко мне, чем если бы мы были наедине. В тот день она была несказанно хороша — соблазнительная, своевольная, властная, как всегда, то привлекавшая меня, то отвергавшая. Эти контрасты, мгновенные перемены лишали меня воли.
Я повел Элси и ее мать в маленький немецкий ресторанчик, в котором был с Линггом, и зал сразу стал как будто светлее, едва Элси переступила его порог. Она перепробовала все немецкие кушанья, влюбилась, если хотите, в Sauerkraut, заявила, что лучше ничего быть не может, захотела узнать, как его готовят, получить рецепт, очаровала немецкого официанта так, что он покраснел как рак и чуть не поджег свои соломенные волосы.
После ленча мы отправились на прогулку, а отыскав достаточную тень, уселись под деревьями и стали болтать. Время от времени я не мог устоять перед искушением и не коснуться Элси, и тогда словно электрический ток пробегал по моему телу. Она тоже время от времени прикасалась ко мне, и то ли на второй, то ли на третий раз я понял, что это не случайно. Эта мысль опьянила меня.
Обратно мы ехали по берегу озера. Заходящее солнце раскрыло веер алых лучей в западной части неба, которые отражались в воде рдяным великолепием. Никогда мне не забыть той поездки. Наши колени покрывал плед, а так как я сидел напротив Элси, то наши ноги соприкоснулись и не отпускали друг дружку. Мирный угасающий день навевал покой и безмятежность. Это был счастливейший день в моей жизни, который и закончился хорошо.
Миссис Леман пригласила меня поужинать, и мы все вместе сели за стол. Потом Элси надела шляпку, и мы немного погуляли, затем я проводил ее домой; к этому времени на небе появились звездочки, и маленькая серебристая луна, едва народившаяся, светила над озером. Когда мы попрощались возле двери, Элси самым естественным образом обняла меня за шею, и наши губы соединились. Чувствуя, что она сдается, я поддался желанию и увлек ее в темный уголок. «Я люблю тебя, — шептал я, — моя желанная, я люблю тебя!» Рассудок изменил мне. «Мой единственный», — вздохнула Элси и, прекрасная, теплая, покорная, отдалась во власть моей страсти...
Однако место было неподходящее; через пару минут шаги послышались на лестнице, потом возле дома. Я успел лишь крепко прижать ее к себе и быстро поцеловать, прежде чем один из жильцов вышел из квартиры и обнаружил нас — пришлось ее отпустить. Элси, как ни в чем не бывало, вежливо и безразлично поздоровалась с ним. Я тоже постарался держать себя естественно, но сердце у меня колотилось, как бешеное, кровь кипела в жилах, и голос, когда я заговорил, звучал странно даже для меня самого. Однако то счастье незабываемо для меня, это самое сладкое из моих воспоминаний; и стоит мне подумать о том дне, жизнь во мне вновь просыпается и я чувствую ее, как никогда.
Лучшего дня не будет в моей жизни, говорил я себе по дороге домой, и, должен сказать, это оказалось правдой, но тогда еще неведомой мне. Лучший день в жизни! Я все еще вижу Элси, когда она открыла дверь — мятежное лицо, огромные глаза с загибающимися ресницами; слышу ее спокойный голос, которым она прогнала человека, посмевшего нам помешать... Боже мой! До чего же давно это было и до чего прекрасным кажется сейчас!
* * *Все, что происходило той весной, видится мне в радужном свете; не исключено, что этому способствовал и стоявший тогда потрясающе солнечный апрель. Погода усиливала иллюзию; в начале месяца шли проливные дожди, зато потом как будто наступило лето. Холодная ветреная зима миновала и была забыта, город радовался весне; началась пора вечеринок, поездок, и на время разговоры о социальной войне стихли, отовсюду слышался лишь смех малышей. Мое решение держаться подальше от Элси еще сильнее сблизило меня с Линггом и Идой. Кроме того, у меня становилось все больше и больше серьезной работы в «Post», так что я стал чаще нуждаться в советах Лингга. Правда, впрямую его мнение я использовал редко: оно не всегда было ясным и очевидным, но всегда заставляло меня задуматься. Он больше не пожимал недовольно плечами, а давал себе труд указать мне путь к новым идеям.
Тогда же я начал понимать его бесконечно добрую природу; несмотря на холодную манеру держаться, он был на редкость внимателен ко всякой человеческой слабости. Ида периодически страдала от невыносимой головной боли нервного происхождения, и тогда Лингг двигался по комнате по-кошачьи бесшумно, приносил ей одеколон, зашторивал окна и менял горячие подушки на прохладные — неутомимо, спокойно, заботливо. Когда же боль проходила, он придумывал какую-нибудь экскурсию; сорок миль на машине и целый день в лесу с обедом на ферме.
Одну такую поездку, выпавшую на ту весну, я запомнил. Избавившись от головной боли, Ида была в прекрасном настроении, и весь день мы с Линггом рвали весенние цветы, из которых она плела венки. Обедали мы в час дня на ферме Ослеров, а около трех вернулись в лес, как в храм. Наш поезд отходил в семь часов, и герр Ослер обещал в шесть привезти нас на повозке вместе со своей рабочей командой обратно на ферму, чтобы мы напились чаю, прежде чем отправиться на вокзал. Поначалу, валяясь на траве, мы болтали о всякой чепухе и смеялись, прячась от по-летнему жаркого солнца. Однако по мере того, как солнце уходило и на землю опускалась прохлада, на нас снисходило более серьезное настроение.
Мне давно хотелось узнать, почему Лингг называл себя анархистом, что он имел в виду под этим термином, как он объяснял его; ну, и я принялся его расспрашивать на этот счет. У него как раз случилось разговорчивое настроение, и, как ни странно, в тот день он выказал небывалый энтузиазм, противоречивший его натуре и никогда не проявлявшийся в обществе обычных знакомых.
— Анархия — это идеал, — начал он, — и как всякий идеал имеет множество практических недостатков, но все же у него есть свои привлекательные качества. Мы хотим сами командовать собой, нам не надо командовать другими, но и другие пусть нами не командуют. Это первое. Начинаем с того, что ни один человек не может судить другого. Разве есть нелепее действо, даже на нашей смешной земле, чем судья, произносящий приговор своему собрату! Чтобы судить человека, надо не только хорошо его знать, но и любить его, видеть его не своими, а его глазами. А ваши судьи ничего не знают о подсудимом, они невежественны и вооружены лишь формулой вместо человеческой симпатии. Отсюда чудовищное, убивающее душу наказание тюрьмой — плохой едой, принудительным ничегонеделаньем, одиночным заключением — вместо возрождающего сочувствия...