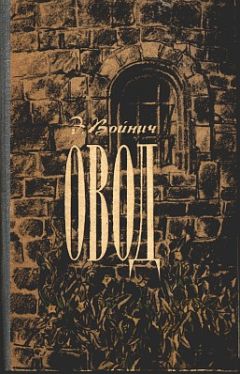Этель Лилиан Войнич - Джек Реймонд
— А почему нет? На что еще я годен? На скрипке я играть не умею.
Тео со вздохом поднялся, закинул руки за голову.
— Возблагодари за это небеса, — сказал он и устало опустил руки. — Знаешь, Гауптман опять телеграфировал. Хочет, чтобы я завтра вечером был в Париже и играл в Шатле концерт Бетховена.
— И поезжай. И играй как можно лучше, не то мама огорчится. А теперь ложись и спи, завтра надо встать пораньше, если не хочешь опоздать на поезд. Я тебя разбужу; я все равно в это время уже на ногах около мамы.
Быть может, на другой вечер Тео сыграл концерт Бетховена и не с таким блеском, как мог бы, но публика и импресарио были довольны. Грянули аплодисменты, и он стиснул зубы; нервы его были натянуты до того предела, когда во всяком звуке слышишь угрозу и во всякой толпе видишь бешеного зверя. Публика восторженно кричала, жадно разглядывала его, громко хлопала, махала программками, а в душе Тео поднимались ужас и отвращение; в отчаянии он закрыл глаза.
— Бис! — вопил зал. — Бис! Бис!
Тео задыхался, он готов был зажать руками уши, чтобы не слышать этого многоголосого рева, который казался ему каким-то бедствием, кощунством. Ему страстно хотелось закричать: «Перестаньте! Как не стыдно! Я не могу играть, у меня мать умирает!»
Он повернулся и пошел прочь со сцены, но на ступеньках ему загородил дорогу импресарио и вновь сунул в руки скрипку. Тео оттолкнул ее:
— Не могу... Я устал...
— Что-нибудь, что угодно — скорей! Иначе мы от них не избавимся. Только этим их и угомонишь.
Тео машинально взял скрипку и вернулся на сцену. Буря криков и аплодисментов разом смолкла, едва он поднял смычок. Наступила тишина — и тут он понял, что ему нечего играть. Невидящими глазами смотрел он на море лиц, в ожидании обращенных к нему, он все забыл, в памяти не удержалось ни единой ноты, ни единого имени композитора.
И, однако, надо что-то сыграть: люди смотрят на него и ждут, ждут, а ему нечего им дать. Слепящие огни словно заволокло дымкой; Тео устремил взгляд в дальний, тускло освещенный конец зала, пытаясь вспомнить. Там, среди теней возникла комната — сумеречная, безрадостная обитель скорби; там его мать — бледное, исхудалое лицо на подушке, высохшие жалкие руки; и у постели — безмолвно бодрствующая фигура, усталые глаза.
Он начал играть. О слушателях он не помнил, он играл не для парижской публики, но для Джека и Елены. Когда он кончил, минуту стояла тишина; потом на него снова обрушились аплодисменты. Содрогнувшись, Тео сбежал по ступенькам.
В артистической Конрад схватил его за руку.
— Тео, — сказал он хрипло, — это было... твое?
Тео огляделся, как затравленный: неистовый гром оваций вызывал в нем ужас; казалось, от этого убийственного грохота никуда не скроешься.
— Я... у меня это получилось само. Это было... очень плохо? Дядя Конрад, заставь их замолчать. Я больше не могу. Я...
Он был страшно бледен, его била дрожь. Конрад тоже побледнел, но по другой причине. Он торжественно положил руку на плечо Тео.
— Возблагодари бога за его великий дар, — сказал он. — Ты гений.
Тео неожиданно разрыдался.
— А мама умирает...
До конца зимы он наотрез отказался давать концерты на континенте. Импресарио убеждал его, упрашивал, грозил, но все напрасно; наконец, пожав плечами, он сдался и устроил Тео несколько выступлений в Лондоне. По счастью, сборы были достаточные, чтобы маленькая семья ни в чем не нуждалась, и можно было дать Елене скромные радости, способные хоть как-то скрасить последние тяжкие месяцы ее жизни.
Перед смертью Елена немного освободилась от вечной сдержанности, которая окутывала ее, точно монахиню саван, все годы вдовства. Конраду, дважды приезжавшему из Парижа повидаться с ней, минутами даже казалось, что перед ним та девочка, которую он знавал в молодости. Изредка вечерами, когда она лежала на низкой кушетке у камина, держа за руку сидевшего рядом Джека, а Тео, растянувшись на ковре, смотрел на нее с обожанием, она рассказывала им что-нибудь о своей жизни в далекой северной пустыне, о муже, его смерти в ссылке, о своей трагической молодости и о более поздних, безрадостных годах. Но чаще сил ее хватало только на то, чтобы молча терпеть боль. Она переносила страдания с бодростью поистине стоической, но от этого они не становились менее изнурительны.
Неожиданно в эту последнюю зиму Елена вновь обрела дар импровизации, которым славилась в юности. Изредка выдавались «светлые дни», когда она не слишком страдала и в то же время была не слишком слаба и измучена, — и незаметно речь ее становилась напевной, и она говорила с Джеком или Тео то стихами, то своеобразной размеренной прозой, напоминающей псалмы или древние народные сказы.
В последний раз она вышла из своей комнаты в начале марта. Среди непогоды вдруг выдалось несколько ясных весенних дней, и разом зацвели первые цветы. В Кью-Гарден в тени под деревьями склонялись головки подснежников, а на поросших травою открытых склонах победно сияли, отражая солнце, золотые чаши желтых крокусов.
Выбрав самый теплый день, Джек и Тео уложили Елену на кушетку и вынесли в парк, чтобы перед смертью она еще раз увидела наступление весны.
Сыновья принесли Елену на лужайку, где цвели десятки тысяч белых, желтых и лиловых крокусов: яркие головки цветов были гордо вскинуты, целый лес прямых стеблей серебрился в траве. Джек сел подле Елены на скамью; Тео, по обыкновению, растянулся прямо на земле, закинув руки за голову. Елена лежала и смотрела на россыпь крокусов; глядя на ее застывшие черты, они оба не осмеливались заговорить, точно перед лицом смерти.
— Мама, — вымолвил наконец Джек, — боюсь, что тебе пора домой.
— Еще минуту, милый, ведь больше я этого не увижу. Смотри! — Взор ее вновь обратился на крокусы. — Вот мой народ.
Джек не понял — он не был наделен столь живым воображением.
— Разве там у вас они растут просто в полях? — спросил он и отвел глаза, чтобы не видеть во всей наготе эту вечную, неисцелимую тоску по далекой родине.
— Разве ты не видишь? — пробормотал, лежа в траве, Тео. — Это войско.
Странный свет вспыхнул в глазах Елены.
— Войско на миг и навеки; войско, что не ведает ни побед, ни поражений. Завоевания ли, утраты ли — воинам все едино; исход битвы предрешен для них еще прежде, чем они увидели свет дня; они падают и умирают и не скорбят об этом, ибо они воины на веки веков; и сама земля у них под ногами проросла копьями.
Джек и Тео слушали затаив дыхание; Елена была неузнаваема, она словно вся светилась.
— Смотрите, как они слабы и беззащитны, как легко наступить на них и раздавить, но какое это несгибаемое и стойкое воинство. Никогда ни один из них не ронял свое знамя, как делают розы; ни один не поникал головой, стыдясь своего дрогнувшего сердца. Когда бьет его час, каждый воин падает, не отступив ни на шаг; и новый солдат, даже не оглянувшись на павшего, становится на его место. И вот все кончено, и та земля, где они полегли мертвыми, уже о них забыла. Буйные летние плевелы скрывают увядшую оболочку и в ней — горькие семена. Но как на смену зиме неотвратимо приходит весна, так неотвратимо восстанут из мертвых наши воины, вновь каждый на своем посту, с оружием в руках, и ряды готовы к бою.
Последовало долгое молчание; потом Елена со вздохом обернулась:
— Идемте, дети. Наша весна еще не настала.
Они отнесли ее в дом; Джек все молчал и смотрел угрюмо. Да, конечно, ее вера не напрасна: в должный срок взойдут семена и наступит жатва. Но что в том толку, если семена так горьки и жатва — смерть?
ГЛАВА XI
После смерти Елены Джек два года учился в Париже. Потом возвратился в Лондон и год работал в больницах, прежде чем поехать в Вену, где он намеревался закончить свое образование. Скромной суммы, которую оставила ему Елена, при его спартанских привычках вполне хватило бы до той поры, пока он не сумеет получить место в какой-нибудь больнице; но он никогда не упускал случая немного заработать: давал уроки, готовил препараты для микроскопа, составлял библиографические справки, — и все, что удавалось сэкономить, откладывал для Молли. Сначала он надеялся, что она приедет к нему в Париж и будет здесь учиться, но, сколько он ее ни звал, она холодно писала в ответ, что «не может уехать из дому». Брат с сестрой по-прежнему переписывались, но сухо, официально, как чужие. Не раз Джек пытался сломать разделявшую их преграду, но не встречал отклика; Молли продолжала писать редко, но аккуратно, в одних и тех же холодно-вежливых выражениях, чопорно и сухо. Очевидно, ее научили видеть в нем отверженного, родство с которым бросает на нее тень. Джеку было горько об этом думать; но он примирился и с этим, как со многим, многим другим.
Однажды, вскоре после возвращения из Парижа, он получил от Молли письмо с лондонским штемпелем. Она коротко сообщала, что будет посещать курсы сестер милосердия, остановилась в Кенсингтоне у родных тети Сары; если он хочет ее видеть, в воскресенье после обеда она дома.