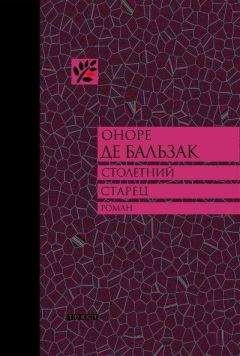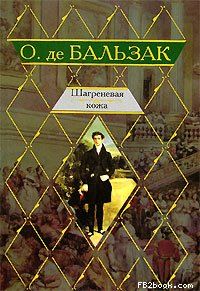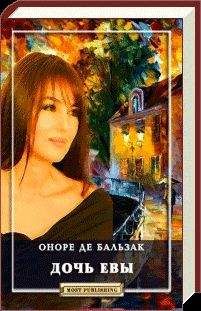Оноре Бальзак - Модеста Миньон
— Скажите мне, мадемуазель, — смиренно проговорил Дюме, преграждая путь Модесте, — скажите мне, что отец не найдет в вашем сердце иного чувства, кроме любви к нему и к вашей матушке, как это и было до его отъезда.
— Я поклялась себе самой, сестре и матери быть всегда утешением, счастьем и гордостью отца, и так оно и будет, — ответила Модеста, бросив надменный и презрительный взгляд на Дюме. — Не смущайте же оскорбительными подозрениями моей радости, — я так счастлива возвращением отца. Но кто запретит сердцу девушки биться? Уж не хотите ли вы, чтобы я превратилась в мумию? — продолжала она. — Я принадлежу семье, но мое сердце принадлежит мне. Если я и люблю, то отец и мать узнают об этом. Довольны ли вы, сударь?
— Благодарю вас, — ответил Дюме, — вы воскресили меня, но, даже давая мне пощечину, вы могли бы назвать меня Дюме, а не сударь.
— Поклянись мне, — проговорила мать, — что ты не обменялась ни словом, ни взглядом ни с одним молодым человеком...
— Могу поклясться в этом, маменька, — сказала Модеста, с улыбкой глядя на Дюме, который пристально смотрел на нее и тоже улыбался, словно напроказившая девушка.
— Неужели же она так лицемерна? — воскликнул Дюме, когда Модеста вошла в дом.
— У моей Модесты могут быть недостатки, — ответила г-жа Миньон, — но она не способна лгать.
— В таком случае не будем тревожиться, — заметил Дюме, — кто знает, быть может, судьба устала нас преследовать.
— Дай-то бог! — ответила г-жа Миньон. — Вы его увидите, Дюме, я же могу его только услышать... Какой грустью омрачено мое счастье!
А у Модесты померкла радость, которую принесло ей известие о возвращении отца, и в эту минуту она напоминала Перетту из известной басни[70]. Она надеялась, что отец составит более значительное состояние, чем то, о котором сообщил Дюме. Сделавшись честолюбивой ради своего поэта, она желала иметь хотя бы половину тех шести миллионов, о которых упомянула в своем письме. К счастью примешались мысли о деньгах и досада на свою относительную бедность; она села за фортепьяно, — этому верному другу молодые девицы поверяют свой гнев и свои желания, выражая охватившие их чувства различными оттенками игры. Дюме беседовал с женой, прогуливаясь с ней под окнами Шале; он сообщил ей по секрету о нежданном их богатстве, расспрашивал об ее надеждах, желаниях и намерениях. У г-жи Дюме, как и у ее мужа, не было иной семьи, кроме семьи Миньонов. И оба супруга решили жить в Провансе, если граф де Лабасти поселится там, и завещать свое состояние тому из детей Модесты, которому оно окажется наиболее необходимым.
— Послушайте Модесту, — сказала им г-жа Миньон. — Только влюбленная девушка может сочинять такие мелодии, не зная теории музыки.
Пусть пламя охватывает дома, пусть гибнут состояния, пусть отцы возвращаются из путешествия, пусть рушатся империи, пусть холера опустошает города, любовь девушки не остановится в своем полете, как природа в своем поступательном движении, как та страшная открытая химиками кислота, которая может прожечь насквозь весь земной шар, если ничто не задержит ее в центре.
Вот романс, который Модеста сочинила на стансы Каналиса под влиянием любви и одиночества. Эти стансы мы приводим здесь, хотя они и напечатаны во втором томе издания, упомянутом в письме Дориа, ибо юная пианистка, стремясь положить их на музыку, нарушила кое-где цезуры, что может удивить поклонников поэта, отличающегося подчас чересчур изысканной отделкой стиха.
ПЕСНЯ ДЕВУШКИПроснись, мой друг! Уж звезды поредели,
Фиалка в небо аромат свой шлет,
И жаворонок, взмыв, с ликующею трелью
Встречает солнца радостный восход.
Уже проснулись нежные левкои,
С очей стряхнули предрассветный сон.
Уже нарцисс любуется собою,
В трепещущих росинках отражен.
Наверно, ночью ангел роз небесный
Благословил уснувшие цветы,
Он возвратил им аромат чудесный
И свежесть первозданной красоты.
Проснись же, друг! Уж звезды поредели,
Фиалка в небо аромат свой шлет,
И жаворонок, взмыв, с ликующею трелью
Встречает солнца радостный восход.
Прогресс, достигнутый в типографском деле, позволил бы нам привести здесь и мелодию, сочиненную Модестой. Однако глубокая выразительность голоса девушки придавала ей то очарование, которое можно встретить лишь в исполнении знаменитых певиц и которое не в состоянии передать типографские знаки, будь то буквы или ноты.
— Очень мило, — сказала г-жа Дюме. — Модеста — музыкантша, и этим объясняется все.
— В ней сидит бес! — воскликнул кассир. Он содрогнулся, вспомнив слова г-жи Миньон, и его сердце сжалось от страшного подозрения.
— Она любит, — повторила г-жа Миньон.
Госпожа Миньон не случайно заставила кассира выслушать романс Модесты, она знала, что музыка лучше всего подтвердит ее догадку, но музыкальные признания Модесты отравили Дюме всю радость, принесенную вестью о возвращении и удаче патрона. Несчастный бретонец отправился в Гавр, куда призывала его служба у Гобенхейма; затем, прежде чем вернуться домой к обеду, он зашел к Латурнелям высказать им свои опасения и снова попросить у них совета и помощи.
— Да, дорогой друг, — сказал Дюме, прощаясь с нотариусом, — я согласен с госпожой Миньон: она любит, — в этом нет сомнения, а остальное известно лишь дьяволу. А я, я опозорен!
— Не отчаивайтесь, Дюме, — промолвил нотариус. — Неужели мы все вместе не окажемся сильнее Модесты? Дайте срок, влюбленная девушка в конце концов совершит какую-нибудь оплошность и выдаст себя. Но мы побеседуем об этом нынче вечером.
Таким образом, все лица, преданные семейству Миньон, были в равной мере охвачены беспокойством, достигшим высшего предела накануне, в вечер описанного нами опыта, на который старый солдат возлагал столько надежд. Неудача настолько расстроила Дюме, что он даже решил отложить свой отъезд в Париж, пока не будет найдена роковая разгадка. Эти благородные сердца, для которых чувства дороже корыстных интересов, поняли в ту минуту, что полковник может умереть от горя, узнав о смерти Беттины и слепоте жены, если в довершение всего его младшая дочь погубит себя. Отчаяние Дюме произвело такое впечатление на Латурнелей, что они совсем позабыли об отъезде Эксюпера, которого в тот день утром проводили в Париж. Во время обеда г-н Латурнель, его супруга и Бутша разбирали вопрос со всех точек зрения и высказывали всевозможные догадки.
— Если бы Модеста любила кого-нибудь здесь, в Гавре, она испугалась бы вчера, — заявила г-жа Латурнель. — Значит, ее возлюбленный живет не здесь.
— Модеста поклялась сегодня утром своей матери в присутствии Дюме, — заметил нотариус, — что она ни разу не обменялась ни словом, ни взглядом ни с одним молодым человеком.
— Неужели она любит так, как люблю я! — проговорил Бутша.
— А как же ты любишь, сынок? — спросила г-жа Латурнель.
— Сударыня, — ответил маленький горбун, — я люблю без взаимности, она так же далека от меня, как эти звезды.
— И как же ты это делаешь, глупыш? — спросила г-жа Латурнель, улыбаясь.
— Ах, сударыня, — ответил Бутша, — то, что вы принимаете за горб, на самом деле лишь оболочка, скрывающая крылья.
— Так вот почему ты завел себе такую печатку! — воскликнул нотариус.
На печатке клерка была изображена звезда, а под ней надпись: Fulgens, sequar (Лучезарная, следую за тобой), служившая девизом дома Шатильоне.
— Прекрасное создание должно быть столь же недоверчиво, как и создание безобразное, — продолжал Бутша, словно говоря с самим собой. — Модеста достаточно умна и может опасаться, как бы ее не полюбили только за красоту.
Горбуны — создания удивительные, мыслимые только в человеческом обществе, а не в природе, ибо там господствует закон, по которому все слабое или уродливое обречено на гибель. Искривление позвоночника, обезображивая внешность человека, в то же время способствует более быстрому и энергичному развитию нервных флюидов, и они, вырываясь из глубины, где возникли, озаряют, подобно яркому свету, весь внутренний облик горбунов. В результате этого рождаются силы, которые иногда проявляются в магнетизме, но чаще всего сосредоточиваются в сферах духовного мира. Попробуйте найти горбуна, который не был бы наделен каким-нибудь свойством, доведенным до крайности; если, скажем, он остроумен, то до ядовитости, если злобен, то безмерно, и если добр, то беспредельно. Душа горбунов похожа на скрипку, которую никогда не разбудит рука музыканта; эти удивительные существа, наделенные преимуществами, о которых они сами не подозревают, уходят, подобно Бутше, в свой внутренний мир и умеют, как маги, направить к одной цели все свои силы, если только не успели растратить их преждевременно на борьбу за существование. Вот источник многих суеверий, народных преданий, толкующих о гномах, страшных карликах и безобразных феях, обо всех этих, как говорил Рабле, людях-сосудах, содержащих в себе редчайшие эликсиры и бальзамы.