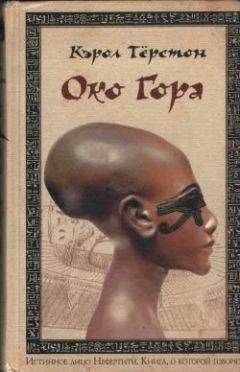Николай Полевой - Клятва при гробе Господнем
– Это моя тайна, которой до сих не открывал я никогда, даже на исповеди, перед святым причастием тела Христова!
„Безумно было бы сомневаться в согласии отца моего, – сказал Косой, по некотором молчании. – Условия, если только они не бесчестны, будут исполнены. Скажи мне их“.
– Скрывать не буду, – отвечал Гудочник. – Первое – Суздальское княжество восстановляется по-прежнему, как было оно при мудром князе Константине: Нижний Новгород, Суздаль, Городец на Волге и Мещера. Князья Василий Георгиевич и Феодор Георгиевич владеют им, на всей воле.
Косой махнул головою. Гудочник продолжал:
– Второе. Новгород Великий получает все древние права свои по льготным грамотам Ярослава Великого.[87]
„Далее!“ – сказал Косой, скрывая нетерпение.
– Третье, – продолжал Гудочник. – Тверь отделяется особым Великим княжеством.
„Как! – вскричал Косой, – вы хотите вырвать честь и славу из венца Мономахова и потом бросить его, обесславленный, на седую голову моего родителя? Это постыдно, это унизительно! Отец мой не согласится; я не хочу! Вы разрываете на части нашу порфиру великокняжескую…“
– Которая еще не ваша, князь Василий Юрьевич, а на плечах князя Василия Васильевича, – отвечал хладнокровно Гудочник.
„Вы отторгаете наши области, разрушаете нашу власть“, – продолжал Косой.
– Их еще надобно добыть, князь! – с горькою улыбкою промолвил Гудочник.
„Братья! – воскликнул Косой, обращаясь к князьям Михаилу и Иоанну и отворотясь от Гудочника, – если вы заодно со мною – оставим крамольников и пойдем добывать своего мечом! Слабому ли мальчику со старою матерью устоять против нас?“
– Разве этому не было опыта? – сказал печально Михаил, молчавший во все время, пока говорил Гудочник. – Разве не старался об этом родитель твой, целые восемь лет? И возможно ли это ныне, когда за восемь лет, сгоряча, ничего не успел он сделать!
„Ваш покойный родитель князь Андрей, покойный дядя князь Петр, Новгород, Тверь, все было против отца моего; боярин Иоанн управлял думою московскою; Орда стояла за Москву; Витовт был жив и только ждал случая двинуться к Москве. Что же теперь? Новгород, боярин Иоанн, Тверь, вы – за нас; Витовта нет; моя рука выучилась управлять мечом покрепче прежнего!“
– Тверь, Новгород, боярин Иоанн не будут за нас, если не примут их условий, – отвечал Михаил. – Что же тогда? Дядя Юрий, восьмью годами постаревший, если он согласится еще на дело – трудное, смелое, не по стариковским силам; Звенигород, Галич, Верея и Можайск – нас трое и только! Ты сам говорил о слабодушии братьев твоих – родных братьев…
„Князь Василий Юрьевич должен еще вспомнить, – начал хладнокровно говорить Гудочник, – что может быть родитель его скорее согласится уступить неверное на верное и, взяв пять, шесть городов, откажется от права старейшинства, за себя и за детей своих, представляя кому угодно ссаживать племянника с великокняжеского стола. Тогда князь Константин Димитриевич, конечно, согласится на все, чтобы только поддержать коренное правило отцов и сесть на великокняжеское местечко“.
– Монах! – вскричал Косой.
„Еще не монах, а если бы и монах был, то можно достать дюжину грамот от всех Вселенских патриархов, которыми разрешат его. Келья и престол, клобук и венец княжеский… выбор не труден! Ему же только сорок четвертый год и страх как приглядывалась ему дочка боярина Иоанна Димитриевича, бывшая невеста Великого князя…“
Глухой стон вырвался из груди Косого, зубы его заскрежетали, кулаком утер он крупные капли пота на лбу. Он походил на дикого зверя в клетке, которого дразнят подачкою, поднося ее к клетке и тотчас удаляя, когда зверь с яростию на нее устремляется.
Наконец, Косой принял спокойный вид и сказал Гудочнику: „Хорошо, я буду на все согласен. Говори же, старик, что мне делать?“
– Теперь – ничего, повторяю я. Сидеть у моря и ждать погоды, которая затягивает вдалеке. Паче всего, князья, молю вас наблюдать осторожность. Меня вы увидите здесь опять вечером. Я только что сегодня пришел и не успел еще ни с кем видеться. Пойду теперь шататься, по Москве с моим гудком, кочевать, где день, где ночь. Когда вам нечаянно понадоблюсь я – знак известный: подле стены Успенского собора начертите большой крест мылом. Когда без того вы мне будете надобны – я приду к одному из вас. Впрочем, Господь Бог да благословит наше дело!» – Он перекрестился; все князья следовали его примеру.
– Я молил бы тебя, князь Василий Юрьевич, – сказал Гудочник, – если мой худоумный совет может годиться, удерживать всячески порывы гнева и княжеского сердца… Может быть, сегодня придется тебе вынести не одно испытание. Будь муж, а не младенец. Чем ласковее ты будешь, тем более тебе поверят; только и надобно забаюкать всех, покамест. И худо сделал родитель твой, что сам не пожаловал в Москву. Оно и ближе, и вернее бы дело шло, и безопаснее было для всех нас.
Казалось, что слова Гудочника имели волшебную силу над буйностию двух молодых князей и над строптивою гордостью Косого. Они безмолвствовали, будто львенки, в тенета попавшие. Старик поклонился и вышел. Но они еще сидели безмолвно.
– Воля Божия исполняется, или козни дьявола осетили меня? – сказал наконец Косой в мрачной задумчивости, водя пальцами правой руки по складкам своего лба. – Кому вверяю я судьбу мою? Кто ручается мне за этого старика?
«Голова его! – вскричал князь Можайский. – Я не уступлю даром: зажгу собственную треть Москвы и стану рубить ее! Двух смертей не будет, одной не миновать! Поедем к нашему женишку, князь Василий Юрьевич!»
– Поедем покланяться Великому нашему князю, – сказал Косой, – и испытаем – можем ли мы притворяться не хуже других? – Молча возвратились князья в ту комнату, где ждал их князь Роман.
– Одеваться мне! – сказал Косой. – Бархатный, шитый кожух мой, червчатый пояс, ордынскую саблю, шапку с золотом!
Часть вторая
Там русский дух… там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый,
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету…
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой…[88]
А. ПушкинГлава I
Поклоны – бой для царедворца,
Обряд пустой – и долг, и честь!
Нам кажется, что совсем не худо придумали ныне рассказчики не только изображать одни главные действующие лица и пересказывать их речи, но и подробно говорить все: где было, как происходило, во что были одеты все действующие лица, что они пили, ели – даже все маленькие подробности требуют ныне описания. Зевнул ли один из действующих, когда другие смеялись, сидели ли двое, когда третий стоял, и проч. и проч. Все это оживляет действие, переносит в то время и в то место, где происходило то, что рассказывается. Часто одна черта, изображающая жилище или одежду действующих лиц, дополняет более, нежели длинный разговор. А притом, нет места мечтам читателя, нет места лоску, которым изображение наше покрывает предметы: все раскрыто, все сказано, как что было и как случилось. Так, например, теперь нам хотелось бы перенесть читателей наших в Кремль. Это легко; но иной из них вообразит себе Кремль XV века таким же белокаменным и золотоглавым, каков он ныне – с высокими бойницами на стенах, с фигурными крашеными башнями, с часами на Спасских воротах; внутри с обширными площадями, огромными строениями, каменными, узорчатыми теремами, мрачными соборами и далеко в воздух улетевшею главою Ивана Великого; снаружи с зеленоцветными садами, чистым, светлым и всеми радужными цветами пестреющий. Кремль тогда был совсем не таков.
Ветхими, каменными стенами окружалось тогда пространство, Кремлем занимаемое; стены сии стояли с самого построения их Димитрием Донским и, выдержав несколько сильных пожаров, так уже были они дряхлы, что через пятьдесят лет, после времени рассказа, их вовсе разобрали и построили все вновь. Невысокие бойницы их сведены были низенькими кровлями сверху и покрыты старыми досками; видели тленность, думали строить их, но только починивали, пока они совсем развалились. Так обыкновенно бывает у людей: сломать старое и строить вновь они не любят, пока само не упадет, а только починивают, лечат и подлаживают. Кремлевских стен не только построить вновь было некогда от внутренних и внешних забот, но еще важное препятствие оказывалось, когда думали о перестройке. Снаружи окруженные тинистым рвом они обставлены были домами, дворами, даже церквами, рынками, амбарами, лавками. Изнутри к ним также прилеплено было множество строений, дворов, церквей. Надобно было все это очистить, разломать. Иоанн III грозно махнул рукою[89] – люди посетовали на него и исполнили его приказ; но при юном Василии Васильевиче и старой матери его никто не смел и подумать о таком деле. Если бы надобно было только скинуть для этого платьемойные плоты и мостики, через Неглинную устроенные, с чего брали пошлины и мыты бояре и княжеская казна, то и тогда от крика и жалоб не знали бы куда деться. Пятьдесят лет, после того прошедших, перевернули все дело.