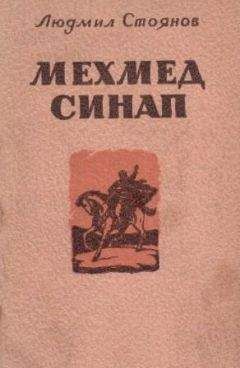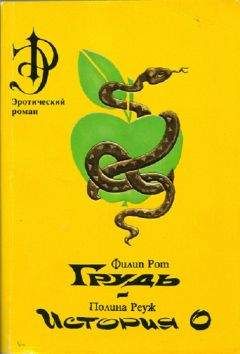Людмил Стоянов - Избранная проза
— Знаю, господи, что недостоин того, чтобы ты снизошел под кров мой, в дом души моей, ибо она пуста и низменна, и нет во мне достойного места для тебя.
Голос священника не умещался в маленькой комнате, вырывался через открытую дверь и затихал в глубине коридора и выше, по направлению к кухне.
Матей Матов делал отчаянные усилия, чтобы выразить свое негодование, но, увы, одними только глазами, которые неестественно расширялись и внушали скорее страх, чем уважение. Никто не обращал на него внимания, словно он был не человеком, а вещью; таинство нужно было исполнить, как того требовал обычай. О, эти «таинства» и обычаи, которые он так ненавидел всю жизнь! Годами дети его оставались некрещеными из-за отвращения к этим безбожным «таинствам».
— Да помилует тя Иисус Христос в Судный день и да благословит во все дни живота твоего.
Священник изрекал эти слова специально для Матея Матова и дивился его равнодушию. Он даже усомнился в его болезни, но машинально продолжал:
— Ибо подобает ему всяческая слава, честь и поклонение, вместе с небесным безначальным отцом и пресвятым, благим и животворящим духом его, ныне, присно и во веки веков, аминь. Аминь, — сказал священник громче, обращаясь к Матею Матову с тем, очевидно, чтобы тот повторил это слово.
— Он ничего не слышит, — прошептала жена.
— А! — удивился священник, поняв, что читал молитву глухому, который не разобрал ни одного слова.
Но затем продолжал как ни в чем не бывало:
— Господи боже наш, ты, который простил грехи Петру и блуднице, вняв слезам их, и оправдал мытаря, раскаявшегося в прегрешениях своих, приемли исповедь раба твоего…
Он замялся на минуту.
Жена шепотом подсказала:
— Матея.
— Раба твоего Матея.
Он вновь попытался помазать лоб больного елеем. Но в это мгновение произошло нечто столь неожиданное, что все отпрянули назад, а маленькая Бонка убежала в другую комнату.
Молнией поразила Матея Матова мысль, что молятся не о жизни, а о смерти его, причащают безнадежно больного, умирающего Матея Матова. Прощай, Матей Матов, да будет земля тебе пухом. Все сомнения, остававшиеся у него до этого момента, рассеялись. Он не слышал ни одного слова из молитвы священника, но догадался, что речь идет о нем, о его жизни и совести, о его грехах. У него, однако, не было никаких грехов. Если у кого и были грехи, так это у его жены, а не у него. Пусть она и отвечает за них! Он только исполнял долг свой, и ничего более. Выполнял устав и приказания начальства. Эх, почему же нет у него сил вскочить, чтоб и попа вышвырнуть, и жене всыпать как следует? Такие молитвы показал бы он им, что на всю жизнь запомнили бы. Откуда они знают, что он умрет? Убеждены ли они в этом? Можно ли верить какому-то пустомеле врачу, который больше разбирается в искусстве донжуана, чем в своем ремесле? Ясно, что это месть жены, издевательство над его болезнью, последнее унижение от этой ведьмы, которая любой ценой хочет избавиться от него. Нет, бог свидетель, этому не быть!
В первый раз он упомянул имя божие.
— «Бог! — невольно подумал он. — Есть ли бог? Ерунда!»
Но это слово, как тень скользнувшее в его сознании, вернулось снова. Он удивился, что до сих пор ни разуме задумывался над ним. Что выражает оно? Не является ли оно лишь пустым звуком, названием самого ничто?
Но чем глубже это слово проникало в его душу, тем сильнее чувствовал Матей Матов, что сдает. Оно принимало исполинские размеры, в нем соединялись миллионы громов, его озаряли чудовищные молнии, в блеске которых разверзалась земля с ее океанами, горами и полями. Оно будило воспоминания о бабушкиных сказках, о домовых и вампирах, о кладбищах и страшных поверьях… Но оно обладало и другой, более могучей силой, которая, словно мельничными жерновами, сжимала душу, требовала ответа за что-то безвозвратно упущенное, может быть за самое жизнь, прошедшую так глупо и нелепо, просыпавшуюся, как песок меж пальцев. Матей Матов отступал перед этим словом, таял, превращался в прах. Ужас, невообразимый ужас овладел им, проник во все его существо, объял его властно и неотвратимо.
Вот священник протягивает руку с елеем, вот холодная влага обжигает ему лоб. Вдруг дыхание его стало учащенным, тяжелым, глаза неимоверно расширились, словно готовые выскочить из орбит, и, собрав последние силы, он издал странный, нечеловеческий звук, нечто среднее между лошадиным ржанием и криком павлина; в тот же миг, в порыве панического страха, он схватил сухими, окостеневшими пальцами одеяло и накрылся с головой.
И замер.
Наступило мгновенное замешательство. Женщины взвизгнули и, ошеломленные, шарахнулись назад, священник наскоро закончил:
— Ибо один ты, бог милостивый и щедрый, имеешь власть прощать грехи, и тебя прославляем, отца, и сына, и святого духа, ныне, и присно, и во веки веков.
Однообразное мяуканье прекратилось; закрыв молитвенник, поп снял епитрахиль и быстро вышел в соседнюю комнату.
3Дом наполнился людьми. Все родственники — близкие и дальние — пришли проведать бедную вдову. Причмокивали языком, удивлялись, жалели несчастную Йовку: каково-то ей будет жить на эту маленькую пенсию!
Что за штука — жизнь! Только вчера его встречали, поздравляли, живого и здорового, а сейчас вот он лежит, неподвижный, в гробу.
Сестры собрали деньги на похороны. Из Габрова тоже пришла помощь. Бедная Йовка! — к ней были обращены все взоры.
Она слонялась, словно тень, или, как выражался покойный при жизни, словно «безголовая муха», входила в комнату, где стоял гроб, будто для того, чтобы убедиться, что он в самом деле умер, и с плачем возвращалась в объятия сестер.
Он лежал в смиренной позе, со скрещенными на груди руками, и, глядя на эти высохшие пальцы, на это лицо, обтянутое желтой кожей, с заострившимся носом, она никак не могла представить себе гордого, вспыльчивого и высокомерного Матея Матова, полковника, перед которым дрожали и солдаты и офицеры, человека, с которым она всю жизнь вела борьбу по самым мелким поводам. Странно, что он молчит, — так привыкла она слышать его голос, его попреки, ругань. Он лежал и молчал, словно бы все было в порядке, — и брюки выглажены, и носки постираны… Йовка то и дело входила в комнату покойного и возвращалась назад; заплаканное лицо ее выражало отчаяние, — можно было подумать, что она любила его всю жизнь, что в семье царили мир и любовь.
Пришел священник, тот же, что и причащал его, и прочел заупокойную молитву. Шагая вокруг покойника и размахивая кадилом, он бормотал нараспев какие-то непонятные слова, которых никто не слушал, и тем более сам Матей Матов. Вопрос — есть ли бог? — был теперь уже излишним и бессмысленным. Есть он или нет, от этого ему не будет ни тепло, ни холодно. Достоверно было одно: его самого уже нет, и это непоправимо.
Тетя Дора взяла все заботы на себя. Она старалась придать грусть своей улыбке, но это ей не удавалось. Все-таки Йовке без него будет хуже. Как-никак он получал пенсию, жалованье как преподаватель гимнастики, писал разные там полезные книжки, — в доме были деньги, хватало на квартиру, на пропитание и даже на одежду. А теперь? Бедная Йовка не умела ни шить, ни писать, ничего не умела делать. Старшая дочь студентка — вот и ей придется бросить ученье, поступить на службу; вообще будущее представлялось мрачным.
Может быть, сестры потому так и жалели Йовку, что понимали, как она беспомощна. Сама она еще не сознавала большого перелома, наступившего в ее жизни. Чувствовала только, что здесь остается жизнь с ее добром и злом, с раздорами и грубостями, а она переходит туда, на другой берег, где необычайно тихо, безлюдно и холодно.
Одни из дальних родственников — тетки и сваты, с которыми она виделась раз в год по обещанию, — готовили на кухне кутью. Другие хлопотали около покойника, словно их обязанностью было являться именно в такие моменты.
Брат Коста, уехавший в предвыборное турне, прислал телеграмму, что потрясен (из-за Йовки), но не сможет присутствовать на похоронах. Это было ударом для сестер, потому что именно он придавал нужный эффект всем их начинаниям. Его участие в чем бы то ни было при каждом удобном случае отмечали газеты.
Лазар Маждраганов, отец, прибыл на автомобиле в ее дом впервые за многие годы. Вошел к покойнику, сказал примирительно: «Все там будем», — и проследовал в другую комнату. Усевшись, принялся расспрашивать о случившемся. Как же так? Ведь до вчерашнего дня был здоров, подвижен, как ртуть, носился, словно самолет?
4Около покойника остались две сватьи. Дремали и дежурили по очереди. Никто из его знакомых не пришел, да и едва ли их уведомили об этом событии. Сам Матей Матов лежал в гробу, потонув в цветах, чужой и безучастный ко всему. Цветы были какие-то серые, увядшие, годные разве лишь на то, чтобы их выбросили.