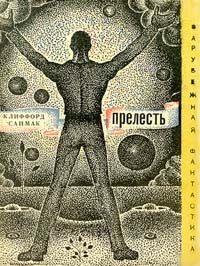Редьярд Киплинг - Собрание сочинений. Том 5. Наулака. Старая Англия
— Вы должны понять, Тарвин-сахиб, — магараджа говорил задумчиво, — что это не просто одна из заурядных государственных драгоценностей, это царица драгоценностей, это святыня. Она даже не в моей власти, и я не могу дать приказания показать ее вам.
Сердце у Тарвина упало.
— Но, — продолжал магараджа, — если я вам скажу, где находится это ожерелье, вы можете пойти туда на свой страх и риск, без вмешательства правительства. Я видел, что вы не боитесь риска, и я очень благодарный человек. Может быть, жрецы покажут вам, может быть, не покажут. А может быть, вы и совсем не найдете жрецов… Ах да, я забыл! Оно не в том храме, о котором я думал. Нет, оно должно быть в Гай-Муке («Коровьей пасти»). Но там нет жрецов, и никто не ходит туда. Конечно, оно там. Я думал, что оно в этом городе, — сказал магараджа. Он говорил, словно об оброненной подкове или куда-нибудь засунутом тюрбане.
— О, конечно… «Коровья пасть»… — повторил Тарвин, как будто и об этом упоминалось в путеводителях.
Магараджа засмеялся прерывистым смехом и продолжал с оживлением:
— Клянусь Богом, только очень храбрый человек может идти в Гай-Мук, такой храбрый, как вы, Тарвин-сахиб, — прибавил он, проницательно смотря на Тарвина. — Першаб-Синг-Джи не пошел бы. Нет, не пошел бы со всеми своими войсками, которые вы покорили сегодня.
— Подождите хвалить, пока не заслужу, магараджа-сахиб, — сказал Тарвин. — Погодите, пока не запружу эту реку. — Он помолчал некоторое время, как бы переваривая последнее известие.
— Ну, я думаю, у вас есть такой город, как этот? — сказал магараджа, указывая на Ратор.
Тарвин одолел, до известной степени, свой первый порыв презрения к государству Гокраль-Ситарун и к городу Ратору. Он начал смотреть на обоих, как обычно смотрел на всех людей и на все предметы, среди которых ему приходилось жить, с известной долей добродушия.
— Топаз станет больше, — объяснил он.
— А когда вы живете там, какое ваше официальное положение? — спросил магараджа.
Тарвин, не отвечая, вынул из кармана телеграмму миссис Мьютри и молча подал ее магарадже. Когда дело шло об избрании, ему было не безразлично даже сочувствие пропитанного опиумом магараджи.
— Что это значит? — спросил магараджа, и Тарвин в отчаянии всплеснул руками.
Он объяснил свое отношение к правительству своего штата, причем законодательные учреждения Колорадо явились одним из парламентов Америки. Он признался, что он — достопочтенный Ник лас Тарвин, если магарадже действительно желательно узнать его полный титул.
— То же, что члены провинциальных советов, которые приезжают сюда? — сказал магараджа, припоминая седовласых людей, которые посещали его время от времени и пользовались авторитетом, мало уступавшим авторитету вице-короля. — Но ведь вы не будете писать туда о моем управлении? — подозрительно спросил он, снова вспомнив о слишком любопытных эмиссарах британского парламента за морями, сидевших на лошадях, словно кули, и бесконечно разглагольствовавших о хорошем управлении, когда ему хотелось лечь спать. — А главное, — медленно прибавил он, когда они подъезжали ко дворцу, — верный ли вы друг магараджу Кунвару? И вылечит ли его ваш друг, госпожа докторша?
— Для этого мы оба здесь! — сказал Тарвин в порыве внезапного вдохновения.
XII
Когда Тарвин расстался с магараджей, его первым побуждением было пустить галопом фоклольского жеребца и немедленно отправиться на поиски Наулаки. Он машинально повернул домой под влиянием этой мысли и укоротил повод, но прыжок жеребца привел его в себя, и одним движением он сдержал себя и своего коня.
Благодаря его знакомству со странными местными названиями слова «Коровья пасть» не произвели на него никакого впечатления; он только задумался, почему ожерелье могло быть в месте с таким названием. Об этом следовало поговорить с Эстесом.
— Эти язычники, — сказал он себе, — люди такого сорта, что могут спрятать его на дне соленого источника или зарыть в яму. Они могут положить королевские бриллианты в ящики из-под бисквитов и завязать ящики шнурками от башмаков. Наулака, вероятно, висит на дереве.
Пока он ехал к дому миссионера, он с новым интересом вглядывался в безотрадный пейзаж. В недрах каждого низкого холма, под каждой кровлей в городе могло храниться его сокровище.
Эстес, переживший многое и знавший Раджпутану, как заключенный знает кирпичи своей камеры, в ответ на прямой вопрос Тарвина дал ему множество сведений. В Индии много различных «пастей», начиная с «Огненной пасти» на севере, где газам, выходящим из земли, поклоняются миллионы людей как воплощению божества, до «Пасти дьявола» среди буддистских развалин в самом отдаленном южном конце Мадраса.
Есть также «Коровья пасть» в нескольких сотнях миль от Ратора, во дворе одного храма в Бенаресе, очень посещаемого набожными людьми; но что касается Раджпутаны, то там только одна «Коровья пасть» и найти ее можно только в одном мертвом городе.
Миссионер пустился рассказывать историю войн и грабежей, тянувшихся сотни лет; центром ее был один город в пустыне, обнесенный каменными стенами и составлявший предмет гордости и славы государей Мевара. Тарвин слушал рассказ с терпением таким же безграничным, как и испытываемая им скука — древняя история не представляла собой никакой прелести для человека, строившего свой город, — пока Эстес пространно рассказывал истории о добровольных самосожжениях тысяч раджпутанских женщин на кострах в подземных дворцах, когда город пал перед войсками магометанина и их близкие умерли, защищая его; женщины лишили победителей всего, кроме пустой славы победы. Эстес любил археологию и ему было приятно поговорить о ней с земляком.
Вернувшись на девяносто шесть миль назад на станцию Равут, Тарвин может сесть на поезд, который довезет его до другой станции в шестидесяти милях на запад; там он может снова пересесть и проехать на юг сто семь миль. Тогда он окажется в четырех милях от этого города с его чудной девятиярусной башней славы (на которую он должен обратить особое внимание), изумительными стенами и пустынными дворцами. Путешествие займет, по крайней мере, два дня. Тут Тарвин попросил карту, и один взгляд на нее показал ему, что Эстес предлагал объезд трех частей квадрата, тогда как похожая на паутину линия бежала более или менее прямо от Ратора до Гуннаура.
— Так, кажется, ближе, — сказал Тарвин.
— Это обычная здешняя дорога, а вы уже имеете некоторое знакомство с такими дорогами. Пятьдесят семь миль в местном экипаже под таким солнцем — это было бы ужасно для вас!
Тарвин улыбнулся украдкой. Он не особенно боялся солнца, которое из года в год отнимало часть жизненных сил его собеседника.
— Я думаю, я поеду верхом. По-моему, проехать пол-Индии за каким-нибудь предметом, который находится недалеко, — лишняя потеря времени. Впрочем, это местный обычай.
Он спросил миссионера, что представляет собой «Коровья пасть», и Эстес описал его с археологической, архитектурной и филологической точек зрения так, что Тарвин понял, что это нечто вроде дыры в почве — древней, замечательно древней дыры особого священного значения, но ничего более.
Тарвин решил немедленно отправиться в путь. Плотина может подождать до его приезда. Вряд ли порыв великодушия магараджи заставит его завтра же открыть тюрьмы. Тарвин обдумывал несколько минут вопрос, следует ли ему говорить магарадже о своей предполагаемой поездке, и решил, что сначала посмотрит ожерелье, а потом откроет переговоры. Таковы, по-видимому, были обычаи страны. Он вернулся на постоялый двор, с картой Эстеса в кармане, и зашел в конюшню. Как всякий житель Запада, он считал лошадь самым необходимым из всех необходимых предметов и машинально купил лошадь, как только приехал в Ратор. Ему доставило удовольствие видеть, как худощавый смуглый кабульский барышник, приведший однажды вечером к веранде своего брыкавшегося, становившегося на дыбы коня, точно повторил все уловки торговцев, у которых он покупал лошадей. Еще больше удовольствия доставила ему борьба с этими уловками, напоминавшая ему былые дни. Результатом этой борьбы, происходившей на ломаном английском и выразительном американском языках, оказался некрасивый, сомнительного нрава, мышиного цвета катиаварский жеребец, уволенный за дурное поведение со службы его величества и неразумно полагавший, что так как он питался остатками корма лошадей дюлийской иррегулярной кавалерии, то предназначен для жизни в довольстве на покое.
Тарвин спокойно разуверил его в те минуты, когда он сильнее всего чувствовал потребность в деятельности, и жеребец если и не испытывал благодарности, то стал, по крайней мере, вежливым. Тарвин назвал его Фибби У инке, в память о неблагородном поведении и воображаемом сходстве между худой мордой лошади и лицом человека, начавшего процесс против Тарвина.