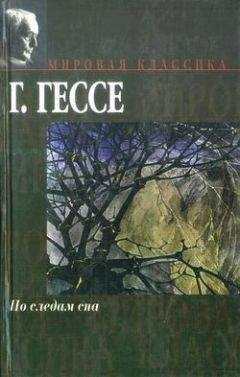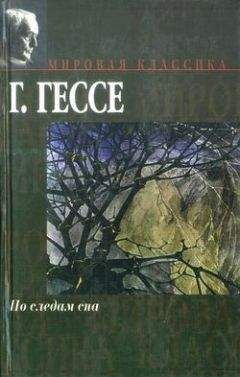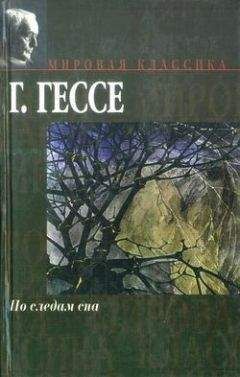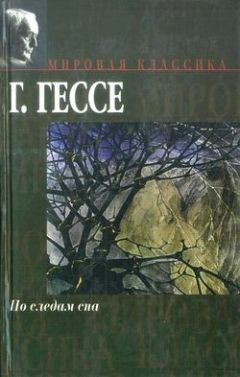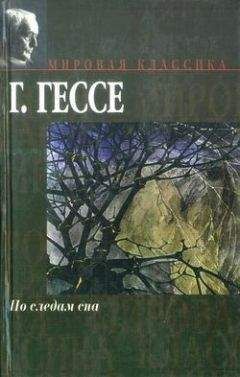Герман Гессе - Листки памяти
Теперь надо поведать и единственную небольшую историю, известную мне об Эберхарде. Вся тогдашняя маульброннская профессура наблюдала и без конца вспоминала эту историю; принадлежа к множеству анекдотов, связанных с фигурой нашего эфора, она сохранилась и то и дело рассказывалась из-за этого человека. Лишь после смерти нашего соученика эта школьная история, поначалу только смешная, приобрела какую-то серьезность и жутковатость.
Наш эфор, директор семинарии, считался хорошим гебраистом и был человек разносторонне одаренный и интересный, неважный, правда, директор и воспитатель и нрава, к сожалению, ненадежного, но любопытный, а порой и обаятельный собеседник, краснобай и актер, умевший с одинаковым блеском строить из себя и шармера, и неприступную твердыню или оскорбленное величие. Мы, ученики, ценили и собирали его словечки и перлы, они прямо-таки напрашивались на имитацию, и многие из них десятки лет пользовались славой среди швабских гуманистов как кафедральная классика. Так, однажды, на лекции по древнееврейскому языку, со страстным пафосом читая в оригинале историю о грехопадении, он при возгласе Ягве, означающем в переводе «Адам, где ты?», в филологическом раже самозабвенно воскликнул: «Как же могло это «дагеш» forte implicitura[5] прозвучать в божественных устах, молодые друзья!»
Итак, этот занятный человек, любивший порой играть здоровяка и молодца, каким он отнюдь не был, вел у нас однажды очередное занятие. Пружинисто расхаживая между кафедрой и доской, он бросал на нас то доброжелательные, то осуждающие взгляды, у него были очень выразительные глаза, и он радовался своему могуществу и великолепию. Вдруг его взгляд остановился на ученике Эберхарде, тот сидел согнувшись, с отсутствующим видом, полузакрыв глаза, погруженный в себя, то ли он устал и дремал, то ли был очень занят какими-то мыслями, не имевшими никакого отношения ни к школе, ни к древнееврейскому. Этот великий лицедей тут же начал роскошную мимическую игру, его лицо выразило удивление, легкое неудовольствие, полувеселье, он пружинисто, легкой походкой приблизился к замечтавшемуся и вдруг металлическим голосом и тоном полушутливым-полунедовольным окликнул его: «Эберхард! И вы хотите быть немецким юношей? Вы сидите тут как растоптанный лесной цветок». Мы все с веселым любопытством повернулись в их сторону и увидели, как Эберхард встрепенулся, выпрямился, смущенно моргая, овладел собой и посмотрел на мимиста покорным, беспомощным взглядом. Как я уже сказал, этот случай показался всем или почти всем смешным, мы были склонны счесть забавными и потешными не только эфора и его спектакль, но и испуганного мальчика. Лишь много лет спустя, после смерти нашего товарища, большинство из нас увидело все это в другом свете, то же произошло и со мной, и с годами эта излюбленная забавная история все больше приобретала для меня какую-то жутковатость и аллегоричность, тщеславный герой кафедры становился постепенно символом всякой власти и агрессивной активности, а тот, другой, воплощал всю потерянность и беззащитную слабость мечтателя или мыслителя, одиночки и отщепенца. Это было столкновение мира и души, грубой действительности и мечты. Противоположность, непревзойденно и незабываемо представленная Жан Полем в сцене, где после страшной ночи во флецской гостинице драгун с возгласом: «Как изволили почивать, господин свояк?» – хлопает по плечу военного священника Шмельцле.
Других, связанных с Маульбронном воспоминаний об Эберхарде у меня нет. Мы были однокашниками лишь несколько месяцев, я досрочно покинул монастырскую школу и только несколько лет спустя, служа в книжной лавке в Тюбингене, снова встретил там своих соучеников – уже студентами. Нашел я среди них и Эберхарда, но сблизиться нам не довелось. Все же несколько раз я встречал его на улице, мы приветливо здоровались, обменивались несколькими словами и шли дальше. Один только раз мы поговорили немного дольше. Он спросил меня о моих интересах и занятиях, я обрадованно отозвался на это и стал рассказывать ему о своем чтении, о своих занятиях Гёте и Новалисом, слушал он вежливо, но с тем прежним взглядом из дальней дали, который не изменился за эти несколько лет и говорил мне, что мои слова доходят только до его ушей. Больше нам встречаться не случалось, но участливое отношение, почти любовь к нему у меня остались. Его отщепенство, одиночество и ранимость вызывали у меня что-то вроде сочувствия, они были понятны мне вне, ниже или выше рационального, потому что как догадка, как возможность были и во мне тоже. Я был, правда, совсем другого нрава, чем он, переменчивее, подвижнее, да и веселее, общительнее, расположеннее к игре, но одиночество и сознание своей отчужденности от других были хорошо знакомы и мне. Это стояние на краю мира, на границе жизни, эта потерянность, этот пристальный взгляд в никуда или в потусторонность – все это, казавшееся частью натуры Эберхарда и постоянной его основой, в какие-то часы и мгновения ставило и для меня жизнь под вопрос, отравляло ее. Там, где он, казалось, стоял или ютился всегда, каждый день, мне уже как-никак тоже приходилось бывать. Только мне всегда удавалось с облегчением возвращаться к привычному и размеренному, где жилось проще.
Вот какие воспоминания, картины, мысли и чувства так мучительно всколыхнули мне душу, когда я, оглушенный траурным маршем, глядел, как исчезает гроб печального моего товарища, а за ним длинное, торжественное шествие, и они с тех пор охватывали меня каждый раз, когда я слышал эту музыку. Она всегда неукоснительно вызывала во мне образ нашего Эберхарда, с его нетвердым, чуть судорожным наклоном головы и плеч, с его прекрасными, грустными чертами лица и соскальзывающим в пустоту, беспомощно кротким взглядом. Вопреки своему обыкновению я никогда не собирал сведений о его короткой тяжелой жизни, полагая, что знаю самое важное. Но через много, очень много лет мое знание дополнилось еще кое-чем. Мне попался портрет одного выдающегося, умершего молодым писателя, к которому я относился с такой же смесью любви и сочувствия, понимания и отчужденности, как к своему маульброннскому товарищу. Красивое, грустное юношеское лицо со скорбным взглядом было поразительно похоже на лицо Эберхарда. Звали этого грустно глядевшего, умершего в молодости писателя Франц Кафка.
Друг Петер
28 марта Петеру Зуркампу исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в одной из франкфуртских больниц, смертельно больной. Я подарил ему свое последнее стихотворение «Утренний час», украшенное акварельной картинкой. Он показывал мой подарок навестившим его друзьям, выпил с ними глоток шампанского. Через три дня, утром 30 марта, он умер. Я потерял самого верного своего друга и самого незаменимого.
Когда у тебя умирает друг, тогда только и видишь, в какой степени и с каким особым оттенком ты любил его. Ведь есть же много степеней и много оттенков любви. И обычно тогда выясняется, что любовь и знание – это почти одно и то же, что человека, которого ты больше всего любил, ты и знаешь лучше всего. Степень боли, испытываемая в момент потери, не имеет решающего значения, она слишком зависит от нашего сиюминутного состояния. Есть времена, дни, часы, когда мы согласны с бренностью, с законом увядания и умирания, и тогда весть о чьей-то смерти мы принимаем так, как принимает осенью дерево дуновение ветра: оно слегка вздрагивает и чуть вздыхает, роняет горсть высохших листьев и вновь погружается в свою дремоту. В другой час боль из-за той же смерти обожгла бы, как огонь, ударила бы, как топор. Кроме того, одно дело, когда чья-то смерть поражает нас, другое – когда мы ее ждали, часто боялись, часто заранее представляли себе. Так было с другом Петером. На протяжении многих лет близкие любили его как страдальца, находящегося в большой опасности, постоянно пребывающего рядом со смертью. Сколько бы жизни и энергии ни излучал он в оживленном, порой страстном разговоре – когда мы потом видели, как он осторожно, явно больной, шагал перед домом, слегка наклонившись вперед, высокий, с вяло повисшими руками, с неподвижным лицом, глядя усталыми глазами куда-то вперед, или когда среди взволнованной речи на него нападал кашель, так всех нас пугавший, ужасный, лающий, сотрясающий тело кашель, при котором его милое лицо искажалось и багровело, когда он медленно и с усилием поднимался со стула и покидал нас с прощальным жестом, – все становилось ясно, и при каждом прощании мы опасались, что оно – последнее.
Поэтому весть о кончине Петера не поразила и не испугала меня. Боль не пронзила, не обожгла, она не поторопилась, она и сейчас не испытана до конца. Но очень скоро образ друга претерпел во мне то превращение, то укрепление, то преображение, которое происходит лишь с образами очень дорогих и очень важных нам завершенностей, которое, собственно, только и придает в нашей памяти, в картинной галерее нашей души завершенность умершим. Ведь мы же знаем немало умерших, которых завершенными никогда не чувствуем и не называем. Мой друг годами находился на краю жизни и не раз отступал для меня на то расстояние, на которое вообще-то уводит наших любимых лишь смерть. Затем он опять возвращался с этого расстояния, с высоты обреченного на смерть в будни живущих и действующих, возвращался с высоты преодолевшего в атмосферу мгновенья и случая. Но теперь, когда возможности такого возвращенья не стало, я увидел и ощутил, что Петер давно уже принадлежал для меня больше к завершенным, сверхреальным (не хочу говорить – «преображенным»), чем к тем, кто жил на одном уровне со мной. Тут играло известную роль то, что я знал в пору его великого испытания, – ведь в самое мрачное время Германии он был приговорен к смерти и, как Достоевский, чуть не казнен. Вдобавок его безнадежная болезнь.