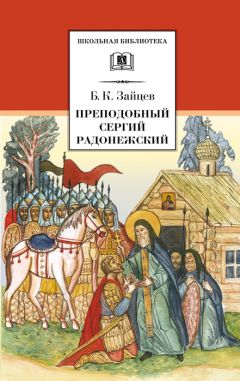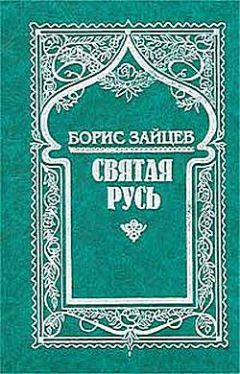Борис Зайцев - Рассказы
— Мой папа на сходке бы-ыл, уж он там с мужиками разговаривал, а я подслушивала. А потом мы: я, Катька ротастая, Катя-клавиш, Серенька, Оля, в ночное ездили. Уж хорошо ехать было, я рысью ехала, и даже меня Серенька догнать не мог.
Привет бесцельному. Глазам, ребятам, играм, ветерку, облаку, благоуханью…
«Жизнь, как она есть» — долой.
Несколько позже: стоим у опушки рощи дубовой. Луна в ясном небе. Зелень в слабом серебре росы. Точно мерцает, мреет что-то над ними, как серебряные ризы Богоматери.
Одень покровом своим бедный мир, дохни сиянием своим в души страждущие.
Вечером, когда детские уста станут произносить слова молитвы: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу»… Ты сойди, душа мира, Свет мира, Богоматерь в ризах серебряных, «осени души страждущие».
Мы стоим. Смотрим, слушаем, два призрака, два чудака в пустынях жизни.
Притыкино, 1917 г.
НОВЫЙ ДЕНЬ
И стерегут, и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба.
А. Пушкин. I
Было тепло, солнце светило. Леночка с холодом в ногах и падающим сердцем, взбежала на крыльцо старенького дома У дороги, наискосок барских оранжерей. Здесь помещалась ранее контора, жил отец, правил имением; а ныне поселилась Катерина Степановна, сестра мужа покойного; с нею и Оля.
Катерина Степановна высокая, худая, усталая женщина с землистым лицом и загрубелыми руками, стирала в сенцах, в небольшом корыте.
— А, это ты! Наконец-то. Дочь давно ждет.
— Ну, ну, как? — Леночка задохнулась, поцеловала ее во влажный, желтоватый лоб. — Что Оля?
— Да ничего, поправляется. Сейчас кофточку ей кончу и приду.
Отвернувшись, стала достирывать, а Леночка распахнула дверь — там пахло слегка затхлостью, чем-то старым, давно знакомым — быстро прошла в комнатку за перегородкой. На постели с завязанным горлом, сидела худенькая девочка лет восьми, и вязала. Увидев мать, чуть побледнела, опустила руки со спицами.
— Мамуля… — лицо ее стало напряженным, глаза заблестели. Видимо, сдерживалась. Но Леночка бросилась, обняла и сама заплакала. Теплая грудь ее волновалась. Простые, карие глаза сияли.
— Радость моя, золотой мой ребенок. Ну, слава Богу, мой, мой…
— Я все думала, мамуля, приедешь ли… — шептала девочка.
— Гостинчика тебе привезла, вот… яблок, шоколаду, и еще гребеночку.
Успокоившись немного, стала ее расспрашивать, рассматривать. Оля, ей казалось, похудела, повзрослела. Что-то почти важное появилось в глазах.
— Мы с тетей Катей все сами делаем. Ей теперь только труднее, что я больная. Но я скоро выздоровлю.
Леночка заставила ее тотчас же съесть кусочек шоколаду. Оля отгрызла. Остальное спрятала в шкатулку.
— Это в другой раз. Буду есть и тебя любить.
Вошла Катерина Степановна, ополоснула руки, заглянула в дверь.
— Ну, нежничает уж мамаша с дочкой.
— Катя, ты представить себе не можешь, как я испугалась, когда Федора ко мне в Москве пришла, стала рассказывать. Невесть что подумалось.
— Я уж тебя знаю. А просто была у девочки жаба и инфлуэнца. Да и по тебе скучает. Проголодалась, небось, с дороги-то? Вздую самовар, ради приезда… а там уж сама действуй. Мы тут люди чернорабочие. Все сами. На ногах с утра до вечера.
Она громко вздохнула и опять вышла.
— Тетя Катя очень устает, — тихо сказала девочка,—
НО
потому что на ней весь дом, и в поле она сама убирала, а я ей вязать помогала. Оттого она такая бывает… — Оля запнулась и посмотрела на мать, — строгая.
Потом улыбнулась и погладила синего жучка на Леноч-кином капоте.
— Мне очень нравится этот жучок… Потому что твой. Она обняла мать, и шепнула с мокрыми от слез глазами:
— Я тебя очень все люблю, ты веселая и ласковая. Леночка стиснула ее, крепко поцеловала и встала.
— Пойду тете Кате помогать. А тебе на вот еще книжечку, посмотри картинки.
Книжек было три, совсем новенькие; от них пахло типографской краской. С тем же напряженно-блестящим взглядом Оля перелистывала их, каждую поцеловала, потом вместе все сложила, подержала на коленях, — и опять стала рассматривать. Временами поправляла гребенку на голове, туго прижимавшую волосы, гладила книжки и шептала:
— Миленькая, премиленькая, рамиленькая.
Леночка же вышла в сени, отняла у Катерины Степановны самовар, сама стала с ним возиться.
— Я духом, духом его! — смеялась, блестя карими глазами. — Господи, благодать какая здесь у вас, в деревне!
Катерина Степановна складывала выстиранное белье.
— Все такая же, Елена. Ни годы, ни заботы на нее не действуют. Должно, жизнь твоя в Москве хорошая.
Леночка сидела перед самоваром, дула и от бурного ее дыханья угли разгорались ярче, золотым огнем. Скоро загудело, сквозь жестяную, в трещинах, самоварную трубу полетели огненные стрелки.
— Солнышко у вас тут, свет, благодать, — говорила Леночка. — Как не радоваться?
Она взглянула на порог, залитый солнцем, на сухую, пыльную дорогу, сад с полуоблетевшей листвой — просветлевший, пестро-нарядный. Совсем вдали золотым стражем стоял клен.
Но Катерину Степановну нельзя было этим взять.
Давно и безоговорочно она что-то решила и никакие клены, солнца и осени не имели над ней силы.
— Благодать! Попробовала бы здесь пожить, спину с утра до вечера не разгибая…
И стала рассказывать, как ей трудно, как теснили ее мужики, как сама она пахала, и скородила, и стряпала. Здесь большие перемены. Усадьбу, правда, не разграбили, но, конечно, молодого графа давно нет, только Александра Игнатьевна живет еще в большом доме — да и его занимают. Лошадей графских всех позабрали, коров оставили — для молочной фермы. А для садов и оранжерей инстуктор есть, молодой человек, и сады считаются советскими.
— Сначала на меня косились, что я с ней знакомство веду, — прибавила хмуро, — а теперь привыкли. Ну, с фермой-то у них плохо, коров нет, а сады ничего, Леонтий Иваныч старается.
Леночка поднялась над самоваром, выпрямилась и мгновенно задумалась. Как идет время! И как все меняется! Давно ли жила она здесь попадьей, в домике у церкви, с худым, мрачным о. Николаем. А потом смерть его, Москва, теперь служит она там, лишь изредка сюда наведываясь. Вольная жизнь, любовь, Василий Васильич. «Нет, вряд ли уж могла она тут прозябать, в прежней, бедной норке. Да, а Оля?»
Отвечать не хотелось. Пусть живет, пака что, здесь, «а что за Василия Васильевича выходить буду, надо, разумеется, сказать…» Леночка зевнула.
— Это, вон, кто в курточке между яблонь ходит? Катерина Степановна взглянула.
— Он и есть. Самый наш инструктор. И никак к нам… Белокурый молодой человек, с грубоватым, здоровым
лицом, перелез через невысокий забор и направился к домику. На нем была кожаная куртка, картуз, высокие сапоги. В руке держал он яблочную снималку и несколько яблок.
— Катерине Степановне нижайшее! Не желаете ли… — он протянул пару золотистых, уже прозрачнейших яблок. — Последние. Хожу, ревизию делаю. Навожу порядок, черт бы их побрал.
Увидев Леночку, немного запнулся. Катерина Степановна поблагодарила.
— Это моя невестка. Из Москвы. Знакомьтесь.
— Очень приятно.
Он снял фуражку, поздоровался.
— Народ, знаете ли, мало понимает… Всюду надо следить и самому торчать, чтобы делов не наделали, черт их побери. Стадо в сад запускают, того не понимая, что корова молодой побег враз скусывает, ей дыхнуть, и посадок ободрала. А ведь с меня спросится.
Он вынул из кармана еще несколько яблок.
— Могу еще предложить — коричневое, есть его любители, это, покрасней, скрижапель, оно, собственно, крейц-апфель, а в просторечии искажено в скрижапель. А вот это им позвольте представить — так сказать, яблоко из яблок, аркад. Там, в Москве, вряд ли найдете. Прямо скажу — чистейший сахар и аромат. Даже удивляюсь, как на веточке удержалось.
Яблоко было огромное, с красно-золотистыми прожилками; сок капал, когда Леночка откусила его тающее, нежное тело.
— Страна была одна счастливая, Аркадия, — пояснил он. — Откуда и название. Значит, там яблоки эти самые росли.
Леночка вдруг засмеялась.
— Ты чего? — спросила Катерина Степановна. Та продолжала смеяться.
— Глупость, — от смеха карие ее глаза стали влажны. — Просто глупость. Я подумала, что верно Ева Адаму такое яблоко подарил-а.
Леонтий Иваныч засмеялся.
— Очень возможно. Лишь у них, знаете ли, сады не сдавались, и окапывать их, обрезать не надо было.
Катрина Степановна не улыбнулась, и спросила, как Александра Игнатьевна. Он встрепенулся.
— Хорошо, что напомнили. В субботу, к семи, чай пожалуйте пить, мед будет, сдобные булочки какие-то. Александра Игнатьевна непременно наказывала вам передать. Я приглашен, да учительница, да, может, батюшка из Проскурова. А теперь разрешите откланяться, спешу, очень тороплюсь по делам, время в высшей степени беспокойное…