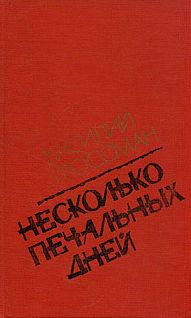Василий Гроссман - Несколько печальных дней
– Андрюша, счастье мое, жизнь моя, ты мой муж, моя любовь, прости ты меня.
Он прижимал ее к себе и, целуя ее мокрые, плачущие глаза, говорил:
– Аничка, ты вернулась ко мне, мне больше ничего не нужно, только ты, только ты одна нужна мне на всей земле.
Потом они сидели рядом на диване, она гладила его волосы, слушала, как он говорил ей:
– Из заводской квартиры нас попросят, Аничка, мы уедем подальше, в тихий город, по вечерам будем ходить на Волгу, в лес.
Он замолчал, вглядываясь в ее лицо, и вдруг поморщился: из соседней комнаты доносился чей-то голос.
Это Марья пела украинскую песню, пела резким, громким голосом, пела впервые за двадцать лет своей замужней и кухарочьей жизни.
ЦЕЙЛОНСКИЙ ГРАФИТ
I
– Как работает новый химик? – спросил главный инженер Патрикеев.
– Не знаю, – сказал Кругляк и закрыл один глаз. – Пока знакомится с лабораторией и ходит по производству.
– Да, плохой ли, хороший – уволить его нельзя, – сказал Патрикеев и, усмехаясь, рассказал Кругляку, что новый химик какой-то особенный политэмигрант и что сам секретарь райкома вчера приезжал говорить о нем к директору. – Это на их языке называется «создать условия», – сказал он.
– Ну, положим! – проговорил Кругляк. – Я у себя в лаборатории не буду создавать условий. Если он не сможет работать, пусть секретарь райкома приезжает еще раз и переведет его в техпроп, к толстой мадамочке, – там чисто санаторная обстановка.
Они заговорили о производстве. Главный инженер усмехался и пожимал плечами: в конце концов, ему все надоело, он устал от этой работы, у него нет больше ни нервов, ни сил.
– Вы подумайте, – говорил он, – управляющий трестом знает только одно: «Мы смогли построить Магнитогорск, а вы не можете наладить выпуск приличного карандаша». Чтобы сделать карандаш, нам нужны японский воск, древесина, виргинский можжевельник, германские анилины, метил-виолет. Ведь это импорт! Только полный профан не может этого понять.
– Э, – сказал Кругляк, – разве можно закрывать производство? – И он рассмеялся от этой смешной мысли. – Виргинский можжевельник мы заменили сибирским кедром. Когда нам сказали, что нет вагонов, чтобы везти кедр, мы заменили кедр липой, а липу ольхой, а ольху сосновыми досками. Сегодня один чудак предложил заменить древесину прессованным торфом. Заменить торфом, в чем дело?
– А чем вы замените цейлонский графит, который у нас на исходе?
Зазвонил телефон. Кругляк взял трубку.
– Да, да, вы угадали. Это я, – сказал он и покосился на главного инженера. – Почему на улице? – с ужасом произнес он. – Почему неприлично к холостому? Но это нелогично, Людмила Степановна, ведь вы обещали. Что? Хорошо, приходите с подругой. Тогда я позову приятеля… Он начальник цеха на «Шарике». Что? Ну конечно, не такой, как я, но в общем хороший парень. Будет, будет патефон, – грустно сказал он. – Что? Хорошо, хорошо, без водки. Будем пить наливку. Видите: со мной как с воском, а вы боялись. Значит, в девять? Очень хорошо! Ну, пока! – И он положил трубку.
– Что, будет сегодня дело? – спросил Патрикеев и, уныло погладив лысину, пробормотал: – Хоть бы в этом году получить отпуск, поехать бы в Сочи.
– Знаете, – сказал Кругляк, – меня уже тошнит от холостой любви. – Потом, сверкнув карими горячими глазами и пронзив воздух большим пальцем, он проговорил: – Цейлонский графит на исходе. А, Степан Николаевич? Разве можно остановить производство карандашей в стране, которая начала учиться писать?
И они снова заговорили о том, что дощечка сырая, что кудиновская глина никуда не годится, а часовярская ничуть не хуже германской шипаховской и что Бутырский завод готовит плохую краску, но что глянц-лак и грунт-лак завода «Победа рабочих» совсем неплохи. Фабер и даже сам Хартмут не отказались бы от них. Потом в комнату ворвался клеевар и крикнул: «Расклейка!» Патрикеев вытер пот, а Кругляк выругался, и они побежали в цех.
Никто не знал настоящей фамилии нового химика, но глядя на его кофейное лицо, синеватые толстые губы, – такие губы бывают у мальчишек, вылезающих из воды после четырехчасового купания, – на черные глаза, ворочавшиеся за громадными стеклами очков, – как существа, живущие своей отдельной и особенной жизнью, – казалось, что имя у него красивое и странное.
Директор фабрики Квочин, человек в сапогах и ситцевой рубахе, красноглазый от недосыпания, хотел обставить встречу красиво и торжественно.
Ему казалось, что сотрудники лаборатории должны произнести речи, по-братски обнять зарубежного товарища, и поэтому нового химика при первом его приходе в лабораторию сопровождали, кроме Квочина, секретарь ячейки и председательница фабкома. Но Кругляк сразу же все испортил.
Он похлопал индуса по спине, потом пощупал его брюки, подмигнул лаборанткам и сказал:
– Вот это коверкот, чистой воды инснаб! Вот бы, товарищ Митницкая, вам такой костюм!
И все невольно рассмеялись, и новый химик улыбнулся, показав отливающие влажной синевой зубы.
Кругляк начал деловито допрашивать, какое у него образование и где он работал.
Новый химик, оказывается, окончил в Англии двухгодичные химические курсы при каком-то колледже.
– Вроде техникума, – объяснил себе вслух Кругляк. Где он работал как химик? О, не много! В Англии он занимался лаковыми красками, а в Германии работал по гидролизу древесины, недолго, около шести месяцев. И еще у себя на родине он полтора года пробыл на графитовых рудниках.
– По эксплуатации или как химик по контролю? – с восторгом спросил Кругляк.
Новый химик снова улыбнулся и замотал головой.
– О, нет, совсем другой! – сказал он.
– Ну, а как вас зовут? – вдруг спросил Кругляк.
И индус, улыбнувшись в третий раз, точно осторожно ступая в темноте, старательно выговорил свое новое имя:
– Николлай… Николлай… Николаевич.
– Ну вот, Николай Николаевич, – сказал Кругляк, – будем работать вместе. В чем дело? Я вас напущу на этот самый графит, почему бы дам не поработать на производстве в советских условиях? – Он удивился и снова повторил: – Конечно, вы поработаете в советских условиях. – Он повернулся к толстухе Алферовой, председателю фабкома, и сказал: – Товарищ Алферова, как жизнь? Я что-то не видел у себя в лаборатории этих пресловутых практикантов из графитного цеха. Где же борьба за знаменитый техминимум?
После этого он произнес речь.
– Ого, карандаш! – говорил Кругляк. – Это вроде метро, экзамен на аттестат зрелости. Карандашных фабрик меньше, чем метрополитенов, если хотите знать. А хорошие карандаши делает только Хартмут в Чехословакии. Вы думаете – Фабер? Ничего подобного! Но подождите, подождите! Вы еще увидите: мы сдадим на аттестат зрелости, экстерном, за четыре года. А не за сто двадцать, как Германия.
В общем, из торжественной встречи ничего не получилось.
II
Новый химик был высок и худ, и хотя он хорошо одевался и носил разрисованный галстук, при каждом его движении как будто становились видны из-под платья сухие, легкие ноги, вздыбленная ребрами грудь и худые темно-коричневые руки. И ходил он по цехам, точно раздвигая высокую траву, странной походкой, похожей на медленный, полный значения танец. К нему привыкли быстро, он вошел в жизнь фабрики так же просто и легко, как и всякий другой человек.
Пробер приносил со склада коробочки графита, новый химик брал навески на аналитических весах и сжигал графит в муфельной печи, потом он снова брал белые фарфоровые тигли своими темными пальцами и взвешивал золу. На клочке бумаги он высчитывал процент зольности и вносил цифры в лабораторный журнал.
Подбегал Кругляк и, заглядывая через его плечо, говорил:
– Цейлонского графита больше не дадут, скоро кончится счастье.
Красивый юноша, мастер графитного цеха, Кореньков, прежде чем загрузить графит в шаровые мельницы, приходил в лабораторию за анализом, и пока новый химик списывал цифры на бланк, Кореньков смотрел на его темное лицо и руки, казавшиеся совсем черными по сравнению с белой сорочкой.
– Как там у вас в Индии, очень жарко? – однажды спросил Кореньков.
– О нет! Совсем хорошо, – поспешно ответил новый химик.
Девушки– лаборантки тихонько обсуждали, красивый ли он.
Худенькая Кратова считала, что он страшный. Оля Колесниченко, первая красавица на фабрике, на которую приходили каждый день молча смотреть молодые инженеры Анохин и Левин и которой Кругляк ежедневно со вздохом и угрозой говорил: «Ох, товарищ Колесниченко, если б вы только не были лаборанткой в моей лаборатории!» – находила, что нового химика губят синие губы. «Я бы, кажется, умерла», – говорила она подругам. Кузнецова и Мензина были согласны с ней. И только старшая лаборантка, толстая Митницкая, носившая пенсне, считала, что индус замечательно красивый и интересный. Она даже рассердилась на Колесниченко и назвала ее мещанкой.