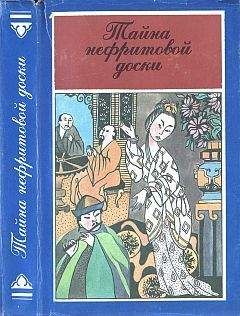Йоханнес Зиммель - Любовь - только слово
Нет, этот воспитатель у нас не задержится! Он, должно быть, жил в совсем плохих условиях… Даже сейчас, когда я все расставил по своим местам, он говорит неуверенно и запинаясь:
— Рашид, клади коврик напротив окна и читай свою ночную молитву.
— Это сура, это не молитва, — отвечает маленький принц и смотрит на меня взглядом, полным благодарности.
— Читай свою суру, — бормочет смущенный господин Гертерих.
Я решил помочь ему еще раз:
— Да, — предлагаю я, — произноси ее громко, Рашид. На своем языке. Мы все будем слушать. Никто тебе мешать не будет. И если господин Гертерих или я — все равно когда, утром или вечером, — хотя бы раз услышим, что тебя донимают, эти сорванцы узнают что почем.
Маленький принц приводит в порядок коврик, становится на колени, касается головой пола и что-то говорит на своем родном языке.
Глава 23
После этого он поднимается, маленький Рашид, скручивает молитвенный коврик и вползает в свою кроватку. Али и Ганси делают то же самое.
— Спокойной ночи, — желает господин Гертерих.
— Good night, gentlemen,[20] — говорю я.
Никто не отвечает, только Рашид улыбается, и я замечаю, что Ганси видит эту улыбку. Неожиданно он тоже рассмеялся, эта ужасная черепушка, и мне теперь вообще непонятно, что я здесь за пять минут сотворил. Пора уже закрывать рот и мне, и господину Гертериху, этому бедняге!
Он идет сейчас со мной по коридору, подает мне потную холодную руку и заикается:
— Я благодарю вас, Оливер… я… я… Понимаете, сегодня мой первый день… Я просто болен от волнения… Так много детей. Маленькие, и все точно взбесились… Я боюсь, да, я признаюсь в этом, у меня ужасный страх… и если бы вы не помогли мне…
— Ваша душа должна покрыться мозолью, господин Гертерих. Иначе эти юнцы покончат с вами.
— Мозоль, мозоль, — бормочет он печально. — Легко сказать…
Потом он кивает мне и, шаркая по коридору, спускается вниз, в свою комнату. Может быть, этому мужику и не стоит помогать.
Двадцать два часа пятьдесят пять минут.
Наверху, на балконе второго этажа, прохладно, но не холодно. Луна за домом, потому балкон в тени. Там старая смотровая башня. Там дом Верены.
Ровно двадцать три.
Я достаю из пальто карманный фонарь и освещаю им дальнюю виллу. Я трижды мигаю, считаю до пяти. Затем снова мигаю.
В окне большого белого дома вспыхивает на мгновение яркий, очень яркий свет. Верена поняла меня.
Мысленно я уже все взвесил. До полудня школа. Потом я принесу браслет. Между двумя и четырьмя мы будем свободны, затем снова занятия до шести. Итак, Верена может встретить меня самое раннее в половине третьего. Можно даже сказать, в три. Никогда не знаешь, что произойдет.
Я мигаю фонарем пятнадцать раз. Пятнадцать раз светят обратно из виллы. На всякий случай мигаю еще пятнадцать раз.
Снова приходит ее сигнал: «Поняла!»
Теперь можно идти спать. Но я почему-то не иду, а стою на балконе и смотрю на большой белый дом в лесу. Почему?
Впервые я был так опечален, как никогда еще в своей жизни, я был даже мрачен. Я всегда со всей страстью стремлюсь к тому, что совершенно нереально.
Я слышу в доме крики детей. Это меня не пугает. Я знаю, они кричат в спальне, стонут в подушки, и мучаются, и плачут, потому что видят дурные сны.
Некоторые сидят на подоконнике и смотрят в ночь, как и я. Это особый мир — интернат. Возможно, вас не интересует, что это за мир. Меня, конечно, это очень интересует, поскольку это мой мир, в котором я живу. Поэтому я возвращаюсь мыслями к истории, которую рассказала мне фрейлейн Гильденбранд, когда я провожал ее домой, историю о детях, живущих в этом интернате.
Здесь одиннадцатилетняя Таня из Швеции. Когда ей было шесть лет, умерла ее мама. Отец снова женился. Вторая жена погибла через год в автомобильной аварии. Отец женился в третий раз. Таня отказалась даже знакомиться с третьей избранницей. В интернате она ни с кем не находит контакта. Два раза смерть лишала ее того, в ком ребенок нуждался более всего, — матери. Смерть может случиться и в третий раз, в этом Таня убеждена. Поэтому она вообще не принимает в расчет третью жену своего отца. Фрейлейн Гильденбранд говорит:
— Таня болеет. Она не ест. Плохо учится. Она рассеянна. В случае с ней возможна детская шизофрения…
А потом я вспоминаю, что рассказала мне фрейлейн Гильденбранд о Томасе. Ему восемнадцать лет. Он в моем классе, познакомлюсь с ним завтра утром. Отец Томаса в Третьем рейхе был известным генералом. Сейчас занимает ведущий пост в штаб-квартире НАТО в Париже. Его имя постоянно мелькает в газетах. Многие завидуют его отцу, вчерашние западные противники Германии (очевидно, не нашли они приспособленцев) видят в нем своего военного вождя. Томас ненавидит своего отца, потому что он до сих пор исполняет то, чему служил всегда.
Я вспоминаю Чичиту, пятнадцатилетнюю девочку из Рио-де-Жанейро. Ее отец строит дамбу в Чили. Мать она не любит. Чичита в интернате уже три года, и все это время она не виделась с отцом. Она говорит, что рада этому, так как каждый раз, когда она его встречает, у него оказывается другая подруга, Чичита должна говорить «тетя». Когда фрейлейн Гильденбранд спросила ее впервые, что, по ее мнению, самое худшее на земле, Чичита из Бразилии ответила:
— Дети. Так всегда говорит мой отец.
А вот что рассказывала мне фрейлейн Гильденбранд о тринадцатилетнем Фреде. Его родители разведены, и отец обязан выплачивать матери большое денежное содержание. Мать живет во Франкфурте — совсем рядом. Но она, похоже, авантюристка. Сын ее постоянно в поездках. Если он приезжает домой, там всегда оказывается какой-нибудь мужчина, и Фреда отсылают обратно. Мать дает ему деньги, лишь бы дома его не было, и Фред должен радоваться этому.
Тогда Фред, уставший от одиночества, едет к отцу в Гамбург. Но едет не один, а со своими подружками. Отец опасается, что это может плохо кончиться, и теперь не разрешает Фреду больше приезжать в Гамбург.
Вспоминаю я и о том, что сообщила мне почти слепая дама, когда я вез ее домой, о восемнадцатилетней девочке по имени Сантаяна. Ее отец — испанский писатель, которому из соображений высокой политики запрещено пребывание в Испании. После войны он написал несколько прекрасных книг. С ним связаны и всякого рода скандальные истории. На Цейлоне он сделал своей любовницей замужнюю женщину. Обоих выгнали из страны. Сантаяна родилась в Евразии. У нее нет дома, никогда не было. Но зато она знает почти все большие города мира и их лучшие отели. Она знает, что есть бриллиантовая диадема, просроченный вексель, судебный исполнитель, поскольку ее отец, отчаявшийся, лишенный родины, иногда зарабатывает довольно много денег, а иногда просто нищенствует. Сантаяна знакома почти со всеми интернатскими детьми. Она очень умная, очень красивая и очень тщеславная. Она, пожалуй, станет большой распутницей…
Я стою на балконе и думаю о калеке Ганси, маленьком Али с его манией величия, Рашиде. И, конечно, о себе. Но как только я переключаюсь на себя, я делаю все, чтобы пресечь эти мысли.
И поэтому я иду обратно в дом и прислушиваюсь к тому, о чем говорят в своих комнатах дети, как они стонут и кричат, тихо вхожу в свою комнату и вижу, что Ноа и Вольфганг уже выключили свет. Оба спят. Я ложусь в свою кровать. Вольфганг глубоко дышит.
Скрестив руки под головой, я думаю о том, что завтра, в три часа, снова увижу Верену Лорд. Ее тонкое лицо. Ее иссиня-черные волосы. Ее чудесные, печальные глаза.
Завтра я принесу ей браслет. Может, она рассмеется. Она такая красивая, когда смеется.
Завтра в три.
Верена Лорд.
Часть вторая
Глава 1
— Germania omnis a Gallis Raetique et Pannoniis Rheno et Danuvio fluminibus, a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut montibus separatur; cetera Oceanus…
— Достаточно, — сказал Хорек. — Пожалуйста, переведите, фрейлейн Ребер.
Пятое сентября 1960 года. Первый школьный день, последний урок. Латынь. Взгляд на часы. Двенадцать часов десять минут. А урок заканчивается в двенадцать часов тридцать минут…
В классе двадцать два ученика: двенадцать немцев, три француза, один англичанин, три швейцарца, один японец и два австрийца. Мы сидим в светлом современном обустроенном классе, в котором изготовленная из стальных труб мебель расставлена полукругом. Ни одной старомодной кафедры на подиуме. Стол и кресло учителя из таких же стальных конструкций, как и у нас, на одном уровне.
— Ну, фрейлейн Ребер, будьте любезны, начинайте, Геральдина Ребер!
Шикарная девушка. Я внимательно изучаю ее. Не сказать, что она потрясающе красива, хотя, в общем-то, красива, особенно ноги и грудь. Но вызывающе сексуальна. Она так высоко начесывает свои рыжие волосы, что уже одно это привлекает к ней внимание. Губы ярко накрашены, на ресницах тушь, на веках зеленые тени. Она носит белый, крупной вязки пуловер, который ей явно мал. На шее у нее ниточка поддельного жемчуга, на руке бренчащий браслет, кольцо на одном из пальцев велико и, похоже, тоже не представляет ценности. Она носит широкую юбку в складку, и сегодня утром мне стало ясно, почему Геральдина предпочитает юбки-плиссе. С сегодняшнего утра она флиртует со мной.