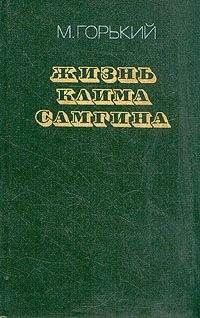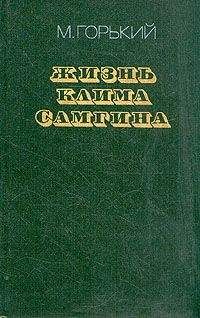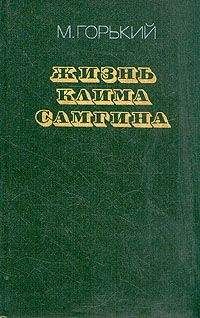Максим Горький - Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть первая
И вдруг, вскочив, точно уколотый, он сказал, стукая кулаком в стену:
– Врете, черти! В университет я попаду, Томилин обещал помочь...
Терпеливо послушав, как Дронов ругал Ржигу, учителей, Клим небрежно спросил:
– Как же у тебя вышло с Маргаритой?
– Что – вышло? – не сразу отозвался Дронов.
– Ну, это – любовь?
– Любовь, – повторил Дронов задумчиво и опустив голову. – Так и вышло: сначала – целовались, а потом все прочее. Это, брат, пустяковина...
Он снова заговорил о гимназии. Клим послушал его и ушел, не узнав того, что хотелось знать.
Он чувствовал себя как бы приклеенным, привязанным к мыслям о Лидии и Макарове, о Варавке и матери, о Дронове и швейке, но ему казалось, что эти назойливые мысли живут не в нем, а вне его, что они возбуждаются только любопытством, а не чем-нибудь иным. Было нечто непримиримо обидное в том, что существуют отношения и настроения, непонятные ему. Размышления о женщинах стали самым существенным для него, в них сосредоточилось все действительное и самое важное, все же остальное отступило куда-то в сторону и приобрело странный характер полусна, полуяви.
Полусном казалось и все, чем шумно жили во флигеле. Там явился длинноволосый человек с тонким, бледным и неподвижным лицом, он был никак, ничем не похож на мужика, но одет по-мужицки в серый, домотканного сукна кафтан, в тяжелые, валяные сапоги по колено, в посконную синюю рубаху и такие же штаны. Размахивая тонкими руками, прижимая их ко впалой груди, он держал голову так странно, точно его, когда-то, сильно ударили в подбородок, с той поры он, невольно взмахнув головой, уже не может опустить ее и навсегда принужден смотреть вверх. Он убеждал людей отказаться от порочной городской жизни, идти в деревню и пахать землю.
– Старо! – говорил человек, похожий на кормилицу, отмахиваясь; писатель вторил ему:
– Пробовали. Ожглись.
Человек, переодетый мужиком, говорил тоном священника с амвона:
– Слепцы! Вы шли туда корыстно, с проповедью зла и насилия, я зову вас на дело добра и любви. Я говорю священными словами учителя моего: опроститесь, будьте детями земли, отбросьте всю мишурную ложь, придуманную вами, ослепляющую вас.
Из угла, от печки, раздавался голос Томилина:
– Вы хотите, чтоб ювелиры ковали лемеха плугов? Но – не будет ли такое опрощение – одичанием?
Клим слышал, что голос учителя стал громче, слова его звучали увереннее и резче. Он все больше обрастал волосами и, видимо, все более беднел, пиджак его был протерт на локтях почти до дыр, на брюках, сзади, был вшит темносерый треугольник, нос заострился, лицо стало голодным. Криво улыбаясь, он часто встряхивал головой, рыжие волосы, осыпая щеки, путались с волосами бороды, обеими руками он терпеливо отбрасывал их за уши. Он спокойнее всех спорил с переодетым в мужика человеком и с другим, лысым, краснолицым, который утверждал, что настоящее, спасительное для народа дело – сыроварение и пчеловодство.
Клима подавляло обилие противоречий и упорство, с которым каждый из людей защищал свою истину. Человек, одетый мужиком, строго и апостольски уверенно говорил о Толстом и двух ликах Христа – церковном и народном, о Европе, которая погибает от избытка чувственности и нищеты духа, о заблуждениях науки, – науку он особенно презирал.
– В ней сокрыты все основы наших заблуждений, в ней – яд, разрушающий душу.
С дивана, из разорванной обивки которого бородато высовывалось мочало, подскакивал маленький, вихрастый человек в пенснэ и басом, заглушая все голоса, кричал:
– Варварство!
– Именно, – подтверждал писатель. Томилин с любопытством осведомлялся:
– Неужели вы считаете возможным и спасительным для нас возврат к мировоззрению халдейских пастухов?
– Кустарь! Швейцария, – вот! – сиповатым голосом убеждал лысый человек жену писателя. – Скотоводство. Сыр, масло, кожа, мед, лес и – долой фабрики!
Хаос криков и речей всегда заглушался мощным басом человека в пенснэ; он был тоже писатель, составлял популярно-научные брошюры. Он был очень маленький, поэтому огромная голова его в вихрах темных волос казалась чужой на узких плечах, лицо, стиснутое волосами, едва намеченным, и вообще в нем, во всей его фигуре, было что-то незаконченное. Но его густейший бас обладал невероятной силой и, как вода угли, легко заливал все крики. Выскакивая на середину комнаты, раскачиваясь, точно пьяный, он описывал в воздухе руками круги и эллипсы и говорил об обезьяне, доисторическом человеке, о механизме Вселенной так уверенно, как будто он сам создал Вселенную, посеял в ней Млечный Путь, разместил созвездия, зажег солнца и привел в движение планеты. Его все слушали внимательно, а Дронов – жадно приоткрыв рот и не мигая – смотрел в неясное лицо оратора с таким напряжением, как будто ждал, что вот сейчас будет сказано нечто, навсегда решающее все вопросы.
Лицо человека, одетого мужиком, оставалось неподвижным, даже еще более каменело, а выслушав речь, он тотчас же начинал с высокой ноты и с амвона:
– Хотя астрономы издревле славятся домыслами своими о тайнах небес, но они внушают только ужас, не говоря о том, что ими отрицается бытие духа, сотворившего все сущее...
– Не всеми, – вставил Томилин. – Возьмите Фламмариона.
Но, не слушая или не слыша возражений, толстовец искусно – как находил Клим – изображал жуткую картину: безграничная, безмолвная тьма, в ней, золотыми червячками, дрожат, извиваются Млечные Пути, возникают и исчезают миры.
– И среди бесчисленного скопления звезд, вкрапленных в непобедимую тьму, затеряна ничтожная земля наша, обитель печалей и страданий; нуте-ко, представьте ее и ужас одиночества вашего на ней, ужас вашего ничтожества в черной пустоте, среди яростно пылающих солнц, обреченных на угасание.
Клим выслушивал эти ужасы довольно спокойно, лишь изредка неприятный холодок пробегал по коже его спины. То, как говорили, интересовало его больше, чем то, о чем говорили. Он видел, что большеголовый, недоконченный писатель говорит о механизме Вселенной с восторгом, но и человек, нарядившийся мужиком, изображает ужас одиночества земли во Вселенной тоже с наслаждением.
На Дронова эти речи действовали очень сильно. Он поеживался, сокращался и, оглядываясь, шепотком спрашивал Клима или Макарова:
– Который, по-твоему, прав, а?
Судорожно чесал ногтем левую бровь и ворчал:
– Н-да, чорт... Надо учиться. На гроши гимназии не проживешь.
Макарова тоже не удовлетворяли жаркие споры у Катина.
– И знают много, и сказать умеют, и все это значительно, но хотя и светит, а – не греет. И – не главное... Дронов быстро спросил:
– А что же главное?
– Глупо спрашиваешь, Иван! – ответил Макаров с досадой. – Если б я это знал – я был бы мудрейшим из мудрецов...
Поздно ночью, после длительного боя на словах, они, втроем, пошли провожать Томилина и Дронов поставил пред ним свой вопрос:
– Кто прав?
Шагая медленно, посматривая фарфоровыми глазами на звезды, Томилин нехотя заговорил:
– Этому вопросу нет места, Иван. Это – неизбежное столкновение двух привычек мыслить о мире. Привычки эти издревле с нами и совершенно непримиримы, они всегда будут разделять людей на идеалистов и материалистов. Кто прав? Материализм – проще, практичнее и оптимистичней, идеализм – красив, но бесплоден. Он – аристократичен, требовательней к человеку. Во всех системах мышления о мире скрыты, более или менее искусно, элементы пессимизма; в идеализме их больше, чем в системе, противостоящей ему.
Помолчав, он еще замедлил ленивый свой шаг, затем – сказал:
– Я – не материалист. Но и не идеалист. А все эти люди...
Он махнул рукою за плечо свое:
– Они – малограмотны. Поэтому они – верующие. Они грубо, неумело повторяют древние мысли. Конечно, всякая мысль имеет безусловную ценность. При серьезном отношении к ней она, даже и неверно формулированная, может явиться возбудителем бесконечного ряда других, как звезда, она разбрасывает лучи свои во все стороны. Но абсолютная, чистая ценность мысли немедленно исчезает, когда начинается процесс практической эксплуатации ее. Шляпы, зонтики, ночные колпаки, очки и клизмы – вот что изготовляется из чистой мысли силою нашего тяготения к покою, порядку и равновесию.
Приостановись, он указал рукою за плечо свое.
– Хотя Байрон писал стихи, но у него нередко встречаешь глубокие мысли. Одна из них: «Думающий менее реален, чем его мысль». Они, там, не знают этого.
Кончил он ворчливо, сердито:
– Человек – это мыслящий орган природы, другого значения он не имеет. Посредством человека материя стремится познать саму себя. В этом – всё.
Когда довели Томилина до его квартиры и простились с ним, Дронов сказал:
– Важничать начал, точно его в архиереи посвятили. А на штанах – заплата.