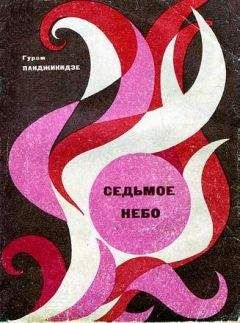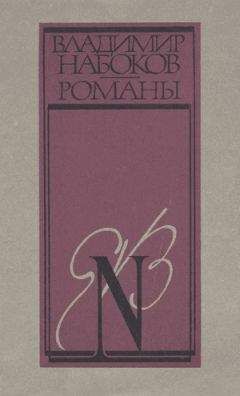Винцас Миколайтис-Путинас - В тени алтарей
Он знал, что наибольшая опасность грозит ксендзам со стороны женщин. Но тут уж его совесть была спокойна. Ведь увлечение Незнакомкой было чисто платоническим и никакого отношения к реальной жизни не имело. А знакомство с Люце было настолько поверхностным, что бросать из-за него семинарию казалось не только смешным, но и глупым. Правда, он часто мечтал о ней, сидя на Заревой горе, но таково уж свойство человеческой натуры, что величайшая слабость проходит незамеченной или же оправданной даже самым суровым самоанализом.
Недооценивал этой слабости и Васарис, а ведь в данном случае дело касалось не почти неземной Незнакомки, которой он даже ни разу не видал вблизи, но живой, темпераментной, «взбалмошной», как говорил Петрила, девушки. Девушке этой он приглянулся и не бежал от искушения. Правда, к концу учебного года воспоминания о Люце изрядно поблекли, а исключение Варненаса на долгое время и совсем изгнало ее из его мыслей. Однако уже к концу первого месяца каникул Васарис все чаще стал подумывать о том, чтобы навестить своего соседа и друга Петрилу. Притягивала же его, конечно, Люце.
Васарис отлично знал, что в клевишкском приходе первое воскресенье каждого месяца праздновалось торжественно и обедня была с выставленными на' алтарь святыми дарами. Этим обстоятельством он воспользовался как предлогом, чтобы навестить соседей. Свой визит он приурочил к первому августовскому воскресенью. Васарис приехал довольно поздно, к самой обедне, и ему удалось увидеть Люце только перед обедом.
— А, вы еще живы? — воскликнула она, встретив его с Петрилой в саду. — А я уже думала, что вас доконали молитвы. Такой заморыш!
В ее словах Васарису послышался упрек за долгое отсутствие, и он начал было оправдываться, но Люце неожиданно перебила его:
— Напротив, мы ждали вас не раньше праздника святого Лаврентия, как в прошлом году. Помните? — и она поторопилась уйти.
Васарису стало стыдно.
«Действительно, зачем я сюда приперся?» — упрекал он себя, раздумывая, что сказать настоятелю, если и тот при виде его выразит изумление. Однако настоятель не изумился.
— А вот и наш милый сосед, — сказал он, подавая ему руку. — Хорошо сделал, что не забыл нас. Давно надо было приехать. Ну, как живешь?
Васарис сразу ожил. В гостиной, кроме ксендза Трикаускаса, который на этот раз отнесся к нему с меньшим высокомерием, был еще студент Бразгис. Васарис едва его узнал, потому что тот сбрил бороду, остригся и был не в студенческой тужурке, а в светлом штатском костюме.
— О, да вы возмужали, — сказал студент, здороваясь с Васарисом. — В прошлом году я боялся, как бы совсем не доконала вас семинария.
«Ведь это почти слова Люце… странно…» — подумал семинарист и громко ответил:
— Все же я, наверно, изменился меньше, чем вы. Я даже не сразу и узнал вас. Вероятно, вы уже окончили?
— Нет, еще год остался, — отвечал студент, — а так как время проходит быстро, я решил, что пора привыкать к буржуйскому виду.
— И к молодой жене, не правда ли? — прибавил, расхохотавшись, ксендз Трикаускас.
— Пока только к симпатии, — скромно поправил его студент.
«Люце…» — мелькнуло в голове Васариса, и он помрачнел еще больше.
Вскоре пришла и она. На ней было темное шелковое платье. Такой нарядной Людас ее прежде не видал. Она казалась еще красивей, чем когда приезжала в семинарию. Студент тотчас же очутился рядом с нею, и они, пересмеиваясь, о чем-то оживленно заговорили. Васарис украдкой поглядывал на нее, но она не оглянулась ни разу.
«Словно меня и нет здесь…» — подумал он, все больше раскаиваясь, что приехал.
За обедом Люце сидела рядом со студентом, а Васариса посадили на другом конце стола, ближе к настоятелю. Ксендз Трикаускас поместился напротив, а слева сидел Петрила. Закусывая, ксендзы и студент опрокинули по несколько рюмок, и разговор оживился. Бразгис, поглядев с сожалением на семинаристов, сказал:
— Нет на свете более несчастного создания, чем семинарист. Я еще понимаю ксендза. Ксендз это ксендз. Правда, многое ему запрещается, но многое и разрешается. Пить он может, сколько дай бог каждому! Нельзя жениться, это, конечно, минус, но… но… где уж тут глупому человеку разобраться в промысле божьем! Не правда ли, ксендз доктор? — обратился он к Трикаускасу. — Но вот семинаристы, попики, левиты — тем уж не позавидуешь! Ничего, нигде и никогда им не разрешается: пить нельзя, курить нельзя, любить нельзя, пофлиртовать, и то нельзя. Ах ты, господи! И ведь это еще не ксендзы, а просто юноши. И чего они в эту семинарию лезут?
— Если вам кажется, что без водки, табака и флирта не спасешься, то, конечно, в семинарию поступать незачем, — смело отрезал Васарис, но тут же сам устыдился своих слов. Слишком шаблонно, по-семинарски звучало это «не спасешься».
— Конечно, вам лучше знать, без чего нельзя «спастись», — продолжал студент, — но вот Адам Мицкевич говорит, что если при жизни не спустишься на землю, то и на небо попадешь не сразу. — Тут он осушил еще одну рюмку и, довольный собою, продолжал: — Но я знаю, вы не из тех, кому угрожал Мицкевич. Вы, конечно, сразу попадете на небо, потому что и на землю иногда спускаетесь, хотя бы мысленно. Я слыхал, впрочем, что богословие не делает различия между поступками и мыслями. А в мыслях вы мало чем отличаетесь от нас, простых смертных. Только все то, что мы делаем открыто, вы таите про себя. Мысленно вы и любите, и флиртуете, и красивым девушкам радуетесь.
Васарис уткнулся в тарелку, чтобы скрыть краску стыда. Ему показалось, что эти слова были обращены прямо к нему. Уж не Люце ли что-нибудь наговорила Бразгису? Тот влюблен в нее и теперь из ревности, в отместку или шутки ради пытается его задеть.
Но самой большой неприятностью было то, что Люце слушала иронические слова студента, а может быть, в душе и соглашалась с ними. Васарис не вытерпел и украдкой поглядел в ее сторону. Племянница настоятеля и впрямь смотрела на него, да еще такими насмешливыми глазами, что его в жар бросило, и он не знал, как усидеть на месте: кусок не лез ему в горло. Людасу казалось, что не она одна, но и настоятель, и ксендз Трикаускас, и Петрила догадались, кому адресованы слова Бразгиса. Васарис не решался вторично взглянуть на Люце, но чувствовал, что она следит за ним, видит, как он сконфужен и отлично понимает причину его смущения.
Все, за исключением Васариса, были в превосходном настроении. Настоятель от разговора о семинаристах перешел к другим темам, студент был доволен, что высказался, а Люце веселилась и не обращала на Васариса ни малейшего внимания, точно его здесь и не было.
Тотчас после обеда Людас стал прощаться, ссылаясь на то, что родители хотят уехать пораньше. Люце равнодушно протянула ему руку и продолжала разговаривать со студентом. Провожать его пошел один Петрила и на крыльце сказал товарищу, показав глазами на окна гостиной:
— Видишь, что делается с Люце? Не зря Бразгис пожертвовал своей бородой и подстриг волосы. Скоро дождемся свадьбы.
— И пора, — ответил Людас. — Если она не собирается продолжать учение, то чего ради ей здесь засиживаться?
Еще до заката Васарис вернулся домой. Отец ушел пасти лошадей. Мать прилегла отдохнуть, и во всем доме было пусто и тоскливо.
Захватив книжку, Людас отправился на свою любимую гору. В тихий, праздничный вечер на ней было еще приятнее обычного. Он растянулся на пригретой солнцем вершине, мысленно перебирал малейшие подробности своего неудачного визита и делал выводы. То, что Люце выходит за Бразгиса, только в первый момент больно поразило его. Теперь же это казалось ему совершенно естественным. Но отчего же она на него рассердилась, почему так явно его третировала, — он никак не мог догадаться. «Приедет Павасарелис!» — все еще звучал в его ушах ее веселый смеющийся голос. Вот как приветливо встретила она Павасарелиса!
Но гораздо больней, чем холодность Люце, его задевали слова студента: «Мысленно вы флиртуете, и любите, и красивым девушкам радуетесь. Только то, что мы делаем открыто, вы таите про себя». Он слушал эти слова, точно их кто-то говорил над самым его ухом. Да, Бразгису удалось заглянуть в его сердце! Но какой вывод сделал он из первых несмелых упований тихого и робкого юноши в черной сутане?
В этот день Васарис впервые услыхал упрек от чужого человека. И в чем же? — в тягчайшем грехе — влечении к женщине. Сам по себе упрек был ничтожен и не стоил внимания, но потревоженная чужим прикосновением совесть Васариса болезненно реагировала. Чужое прикосновение мучило и унижало его. Ведь если поглядеть на него глазами Бразгиса, то каким ничтожным, смешным и жалким покажется он со своими мечтами о женщине, о Люце, о Незнакомке.
Долго еще терзал себя Васарис различными размышлениями на ту же тему и только дома, уже улегшись в постель, пришел к такому выводу: «Бразгис прав, ты ничтожен и смешон, ты семинарист-левит и должен знать свое место. Мечты о земных радостях, о счастье, девичьей улыбке — все это не для тебя! Каждый имеет право влезть в твою душу, узнать твою тайну, высмеять и унизить тебя ни за что ни про что».