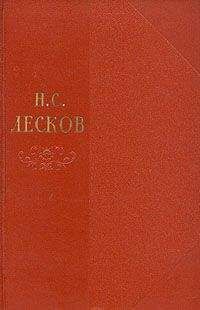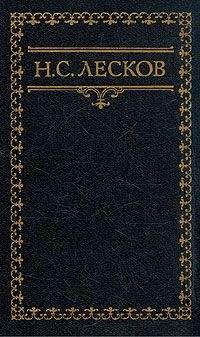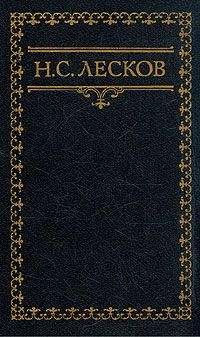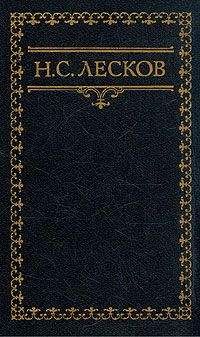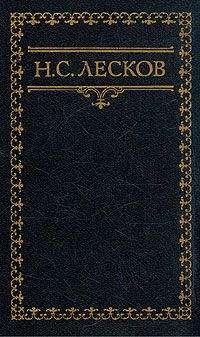Николай Лесков - Некуда
– Конечно, не так.
– Как же это ты и Зину Бахареву уважаешь, и Соньку, и Лизу, и поповну молодую, и Гловацкую?
– Эко напутал!
– Чего? да разве ты не во всех в них влюблен? Как есть во всех. Такой уж ты, брат, сердечкин, и я тебя не осуждаю. Тебе хочется любить, ты вот распяться бы хотел за женщину, а никак это у тебя не выходит. Никто ни твоей любви, ни твоих жертв не принимает, вот ты и ищешь все своих идеалов. Какое тут, черт, уважение. Разве, уважая Лизу Бахареву, можно уважать Зинку, или уважая поповну, рядом с ней можно уважать Гловацкую?
– Да к чему ж ты их всех путаешь?
– Власть, братец мой, такую имею, и ничем ты мне этого возбранить не можешь, потому что рыльце у тебя в пуху.
Доктор встал с постели, набил себе дорожную трубку, потом выпил рюмку водки и, перекусив огурец, снова повалился на постель.
– Все это, братец мой, Юстин Феликсович, я предпринимаю в видах ближайшего достижения твоего благополучия, – произнес он, раскуривая трубку.
– Благодарю покорно, – процедил сквозь зубы Помада, не прекращая своей бесконечной прогулки.
– И должен благодарить, потому что эта идеальность тебя до добра не доведет. Так вот и просидишь всю жизнь на меревском дворе, мечтая о любви и самоотвержении, которых на твое горе здесь принять-то некому.
– Ну, и просижу, – спокойно отвечал Помада.
– Просидишь? – ну, и сиди, прей.
Помада молчал.
– Отличная жизнь, – продолжал иронически доктор, – и преполезная тоже! Летом около барышень цветочки нюхает, а зиму, в ожидании этого летнего блаженства, бегает по своему чулану, как полевой волк в клетке зверинца. Ты мне верь; я тебе ведь без всяких шуток говорю, что ты дуреть стал: ты-таки и одуреешь.
– Какой был, таков и есть, – опять процедил Помада, видимо тяготясь этим разговором и всячески желая его окончить.
– Нет, не таков. Ты еще осенью был человеком, подававшим надежды проснуться, а теперь, как Бахаревы уехали, ты совсем – шут тебя знает, на что ты похож – бестолков совсем, милый мой, становишься. Я думал, что Лизавета Егоровна тебя повернет своей живостью, а ты, верно, только и способен миндальничать.
Помада продолжал помахивать у своего носа еловою веточкой и молчал, выдерживая свое достоинство.
Доктор встал, выпил еще рюмку водки и стал раздеваться.
– У человека факты живые перед глазами, а он уж и их не видит, – говорил Розанов, снимая с себя сапоги. – Стану я факты отрицать, не выживши из ума! Просто одуреваешь ты, Помада, просто одуреваешь.
– Это ты отрицатель-то, а не я. Я все признаю, я многое признаю, чего ты не хочешь допустить.
– Например, любовь, происходящую из уважения? – смеясь, спросил доктор.
– Да что тебе далось нынче это уважение! – воскликнул Помада несколько горячее обыкновенного.
– Сердишься! ну, значит, ты неправ. А ты не сердись-ка, ты дай вот я с тебя показание сниму и сейчас докажу тебе, что ты неправ. Хочешь ли и можешь ли отвечать?
– Да я не знаю, о чем ты хочешь спрашивать.
– Повар Павел любит свою жену или нет?
– Кто ж его знает?
– Ну, а я тебе скажу, что и он ее любит и она его любит. А теперь ты мне скажи, дерутся они или нет?
– Ну, дерутся.
– Так и запишем. – Теперь Васенка любит мельника Родиона или не любит?
– Да черт знает, о чем ты спрашиваешь! Почем я знаю, любит Васенка или не любит?
– Почем! А вот почем, друг любезный, потум, что она при тебе сапоги мои целовала, чтобы я забраковал этого Родиона в рекрутском присутствии, когда его привезли сдавать именно за то, что он ей совком голову проломил. И не только тут я видел, как она любит этого разбойника, а даже видел я это и в те минуты, когда она попрекала его, кляла всеми клятвами за то, что он ее сокрушил и состарил без поры без времени, а тут же сейчас последний платок цирюльнику с шеи сбросила, чтобы тот не шельмовал ее соколу затылок. Кажется, ведь любит? А только тот встал с подстриженным затылком, она ему в лицо харкнула. «Зверь, говорит, ты, лиходей мой проклятый». Где ж здесь твое уважение-то?
– Что ж, тут вовсе не любовь, а сожаление.
– Сожаление! А зачем же она сбежала-то с ним вместе?
– Воли захотелось.
– Под его кулачьями-то! Ну, нет, брат, – не воли ей захотелось, а любвб, любвб эти штуки-то отливает. Воли бы ей хотелось, давно бы ее эскадронный пять раз откупил. Это ты ведь тоже, чай, знаешь не меньше моего. Васенка-то, брат… знаешь, чего стоит! Глазом поведет – рублем одарит. Это ведь хрящик белый, а не косточка. А я тебе повторяю, что все это орудует любовь, да не та любовь, что вы там сочиняете, да основываете на высоких-то нравственных качествах любимого предмета, а это наша, русская, каторжная, зазнобистая любва, та любва, про которую эти адски-мучительные песни поются, за которую и душатся, и режутся, и не рассуждают по-вашему. Белинский-то – хоть я и позабывал у него многое – рассуждает ведь тут о человеке нравственно развитом, а вы, шуты, сейчас при своем развитии на человечество тот мундир и хотите напялить, в котором оно ходить не умеет. Я тебе не два, а двести два примера покажу, где нет никакого уважения, а любовь-то живет, да любовь не вашенская, не мозглявая.
– Да ты все из какого класса примеры-то берешь?
– А тебе из какого? Из самого высокого?
– Что высокий! Об нем никто не говорит, о высоком-то. А ты мне покажи пример такой на человеке развитом, из среднего класса, из того, что вот считают бьющеюся, живою-то жилою русского общества. Покажи человека размышляющего. Одного человека такого покажи мне в таком положении.
– Ну, брат, если одного только требуешь, так уж по этому холоду далеко не пойду отыскивать.
Доктор снова встал в одном белье в постели, остановил Помаду в его стремительном бегстве по чулану и спросил:
– Ты Ольгу Александровну знаешь?
– Твою жену?
– Да, мою жену.
– Знаю.
– И хорошо знаешь?
– Да как же не знать!
– Уважаешь ты ее?
– Н… ну…
– Нет, – хорошо. За что ты ее не уважаешь?
– Да как это сказать…
– Говори!
– Да за все.
– Она разбила во мне все, все.
– Верю, верю, брат, – отвечал расстроенный этим рассказом Помада.
– А я ее люблю, – пожав плечами, произнес доктор и проглотил еще рюмку водки.
И с этим лег в постель, укрылся своим дубленым тулупом и молча повернулся к стене, а Юстин Помада, постояв молча над его кроватью, снова зашагал взад и вперед.
За стеною, в столярной, давно прекратились звуки гармонии и топот пляшущих святочников, и на меревском дворе все уснуло. Даже уснула носившаяся серыми облачными столбами воющая русская кура, даже уснул и погас огонек, доев сальный огарок, в комнате Помады. Не спала только холодная луна. Выйдя на расчистившееся небо, она смотрела оттуда, хорошо ли похоронила кура тех, кто с нею встретился, идучи своим путем-дорогою. Да не спал еще Юстин Помада, который не заметил, как догорела и сгасла свечка и как причудливо разрисованное морозом окно озарилось бледным лунным светом. Он все бегал и бегал по своей комнате, оправдывая сделанное на его счет сравнение с полевым волком, содержащимся в тесной клетке.
«Дичь какая! – думал между прочим, бегая, Помада. – Все идеалы мои он как-то разбивает. Материалист он… а я? Я…»
Без ответа остался этот вопрос у Помады.
«Я вот что, я покажу… что ж я покажу? что это в самой вещи? Ни одной привязанности устоявшейся, серьезной: все как-то, в самом деле, легко… воздушно… так сказать… расплывчато. Эка натура проклятая!»
«А впрочем, – опять размышлял Помада, – чего ж у меня нет? Силы? Есть. Пойду на смерть… Эка штука! Только за кого? За что?»
«Не за кого, не за кого», – решил он.
«А любовь-то, в самом деле, не на уважении держится… Так на чем же? Он свою жену любит. Вздор! Он ее… жалеет. Где любить такую эгоистичную, бессердечную женщину. Он материалист, даже… черт его знает, слова не придумаешь, чтό он такое… все отрицает… Впрочем, черт бы меня взял совсем, если я что-нибудь понимаю… А скука-то, скука-то! Хоть бы и удавиться так в ту же пору».
И с этим словом Юстин Помада остановился, свернул комком свой полушубочек, положил его на лежанку и, посмотрев искоса на луну, которая смотрела уже каким-то синим, подбитым глазом, свернулся калачиком и спать задумал.
Глава двадцатая
За полночь
За полночь послышалось Помаде, будто кто-то стучит в сеничную дверь.
«Сон, это я во сне вижу», – подумал дремлющий Помада.
Стучали после долго еще в дверь, да никто не встал отворить ее.
«Сон», – думал Помада.
В мерзлое стекло кто-то ударил пальцем.
Еще и еще.
«Ну пусть же еще ударит, если это не сон», – думал Помада, пригревая бок на теплой лежанке.
И еще ударили.
– Кто там? – вскинув голову, спросил Помада. Гул какой-то послышался из-за окна, а разобрать ничего невозможно.
– Чего? – спросил Помада, приложив теплое лицо к намерзлому стеклу.
Опять гул. Человеческий голос, а ничего не разберешь.