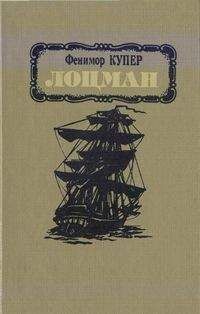Джеймс Джонс - Отныне и вовек
— Да.
— И Хомс ничего не сказал?
— Сказал, что запрещает.
— Но ты все равно поехала?
— Конечно. — Она улыбнулась. — Я же люблю тебя, родной.
На мгновенье ему стало страшно, что он не выдержит, и не потому, что слишком мучительно обо всем этом думать, — он не выдержит чисто физически, его организм не справится.
— Я должен тебе кое-что сказать.
— Да?
— Это насчет моего офицерского звания.
— Я знаю. — Карен улыбнулась. — В Скофилде целую неделю только об этом и говорят.
— Так ты все знала? Когда я сюда вошел, ты уже знала?
— Да.
— И когда я тебе позвонил, тоже знала?
— Да.
— И все равно приехала?
— Да.
— Хотя Хомс тебя не отпускал?
— Да.
— Но почему же тогда?
— Потому что ты хотел, чтобы я приехала. Потому что я сама хотела приехать.
— Я этого не стою, — сказал он. — Такого я не стою. Я не тот человек.
Она вдруг быстро и легко спустила ноги на пол, нагнулась к нему из кресла и прижала палец к его губам:
— Тс-с-с! Не говорит так. Я тебе не разрешаю.
Тербер резко отвел ее руку.
— Я ничего не мог с собой поделать. Я не мог иначе. Я очень старался, но не смог.
— Я понимаю, — мягко сказал она.
— И ты все это время знала. — Голос его прозвучал тускло, невыразительно. — Даже когда я звонил.
— Еще раньше. Мне кажется, я очень давно поняла. Просто не хотела себе признаться. Я с самого начала знала, что ты не сможешь. Наверно, за это я тебя и люблю. Может быть, мы всегда только то и любим, что нам не достается. Может быть, именно в этом весь секрет любви. Может, так и должно быть. Бывали минуты, когда я тебя ненавидела, — продолжала она. — Иногда так ненавидела, что дальше некуда. В любви всегда есть доля ненависти. Потому что любовь привязывает тебя к человеку, которого любишь, и ты отчасти теряешь свободу. А ты этому противишься, ты не можешь с этим смириться. Ты не хочешь терять свободу, ты бунтуешь, но при этом стараешься заставить другого целиком пожертвовать своей свободой ради тебя. Любовь обязательно рождает ненависть. И пока на земле не перевелись люди, в любви всегда будет доля ненависти. Может быть, люди для того и созданы, чтобы научиться любить без ненависти.
Она по-прежнему сидела подавшись всем телом вперед, к нему, локти ее упирались в колени — такие стройные, такие красивые колени! — глаза сияли, рука, которую он отвел от своих губ, по-прежнему лежала в его руке.
— Я старался, — глухо сказал он. — Никто даже не знает, как я старался.
— Я знаю.
— Нет, ты тоже не знаешь. Но когда я посмотрел на них… На Росса, на Колпеппера, на Крибиджа, на всех прочих… когда я понял, что они такое… я не смог.
— Конечно! Это же естественно. Иначе бы ты не был Милт Тербер. И я бы тебя не любила.
— А наши планы? То, что потом? То, о чем мы мечтали? Я все пустил под откос.
— Это неважно.
— Нет, важно.
— Сто домов есть у меня, не построен ни один, — нараспев сказала Карен. — Но все сто — мои дома, и я в каждом господин.
— Жить воспоминаниями, — горько усмехнулся он.
— Вовсе нет, — возразила она. — Я не о том. Но мои дома все равно останутся моими, понимаешь?
— Почему мир так по-дурацки устроен? — сказал он, больше не сдерживаясь. — Не понимаю, почему все должно быть именно так?
— Я тоже не понимаю, — кивнула она. — Раньше я от этого ужасно страдала. А теперь знаю, что только так и бывает. Только так, и не иначе. Не успеешь справиться с одним, как на тебя наваливается другое, еще тяжелее. Так всегда.
— Я тебе никогда ничего не давал, только брал от тебя, — сдавленно пробормотал Тербер. — Ты мне отдавала все, а я только брал. И ничего не давал взамен.
— Нет, неправда. Ты дал мне очень много. Ты вернул мне свободу. Дейне больше не сможет ничего со мной сделать. Ни обидеть, ни унизить. С тобой я поняла, что могу нравиться. Что меня можно любить.
— Все это дал тебе Старк. В Блиссе.
— А потом сам же все отобрал и перечеркнул. Он погубил все, что нас связывало. Погубил, когда еще ничего не было кончено.
— Как я сейчас.
— Нет. Совсем нет. Если честно, то, наверно, даже хорошо, что так сложилось. Знаешь, мне кажется, я не пошла бы за тебя замуж. Мы с тобой давно уже незаметно губим нашу любовь. Она постепенно от нас уходит. Ты же сам это знаешь.
— Да, — сказал он. — Правда.
— А так она будет с нами всегда. Любовь либо долго тает и в конце концов сходит на нет, либо умирает молодой и остается в памяти. Есть только один способ сохранить любовь — никогда не принадлежать друг другу. Вечно желать и вечно говорить своему желанию «нет». Тогда бы мы ее удержали. Но ни ты, ни я не могли на это пойти, как раз против этого мы оба и боролись изо всех сил. А если бы мы поженились, мы бы добили нашу любовь окончательно. Нас вовремя спасла война. Так что, видишь, война — это не только плохое.
— Карен, откуда ты все это знаешь?
— Из жизни. Я ведь же немало прожила.
Она откинулась на спинку кресла, глаза ее лучисто сияли, как всегда, когда она рассуждала о любви, хрупкие, тонкие руки неподвижно лежали вдоль тела.
И он, Милт Тербер первый сержант Милт Тербер, вдруг оказался на коленях. Рядом с ее креслом.
— Я не хочу тебя терять, — шептал он. — Я без тебя не могу.
Он погладил ее голые ноги.
— Не надо, — беспокойно сказала Карен. — Прошу тебя, не надо. Так ты все испортишь.
— Я ничего не хочу, — соврал он. — Только почувствовать тебя.
— Ты же сейчас заведешься. — В ее голосе была досада. — Ты ведь всегда так.
— Не заведусь.
— Я же тебя знаю. А я не хочу. Мне этого сейчас не надо. Я хочу просто любви.
— Мне только почувствовать тебя, — снова соврал он. — И больше ничего. — Он прижался лицом к упругой выпуклости бедра, скрытого зеленой юбкой.
— Все было так прекрасно. Милт, пожалуйста, не надо это портить.
— Не буду, — пообещал он. — Я ничего не испорчу. Честное слово. Только скажи, ты чувствуешь, как я тебя люблю? Мои руки… ты чувствуешь, как они тебя любят?
Все было очень странно, более чем странно.
Как пугливая ручная лань, недоверчиво приближающаяся к человеку только после долгих уговоров, она уступала его ласкам сначала неохотно и осторожно, но потом ее руки нежно заскользили по его волосам, лицу, шее, плечам, спине — поднявшись с колен, он сел боком на подлокотник кресла, чтобы можно было ее поцеловать.
— Я так люблю быть рядом с тобой, — прошептала она, — прикасаться к тебе, ласкать тебя. Но это всегда кончается одним и тем же. Знаешь, мне столько раз хотелось прижаться к тебе, но я себе запрещала. Потому что это всегда кончается одним и тем же.
— Не бойся, — шепотом успокоил он. — Сегодня так не будет.
И продолжал ласкать ее, пока наконец она не шепнула:
— Подожди, дай я сниму с кровати покрывало. Пусть будет, как ты хочешь. Мне все равно. Я не обижусь, правда. Я же знаю, тебе этого хочется. Только надо убрать покрывало, а то мы его помнем. Они к нам так хорошо отнеслись, будет неудобно.
До этой минуты все шло так, как уже много-много раз.
Но, когда она сама это предложила, Тербер вдруг отказался.
Что его остановило? Может быть, стыд и благодарность за то, что она хоть и знала, но все равно приехала. А может быть, не только это.
— Я не обижусь, правда. — Она приносила эту жертву с готовностью, с любовью. — Сейчас все уже по-другому. Это ничего не испортит. Я ведь знаю, что тебе хочется.
Но он опять отказался. Видно, были в его душе тайники, о которых он и сам не догадывался. Одна мысль о том, что он может сейчас сделать с ней что хочет, оскорбляла его. Видно, он так и не изжил в себе до конца свое католическое целомудрие.
— Если хочешь, пожалуйста, — улыбнулась Карен. — Я не против. Ты не думай, я не обижусь.
— Да нет, лучше не надо, — сказал он, и это была наполовину правда.
— Как же я тебя люблю! — Она припала к нему и обняла его. — Как я тебя люблю!
Странно все это было.
Она откинулась в кресле, ее руки гладили его по волосам, он прижался лицом к ее груди, и они снова и снова ласкали друг друга, взахлеб что-то говорили, не слушая один другого, произносили глупые, бессмысленные слова, предназначенные вовсе не для передачи мыслей, а только для выражения мгновенных ощущений — так у человека невольно вырывается «Ох!», когда его ударяют в живот, так солдат вскрикивает: «Меня ранило!», когда в него попадает пуля.
Он прежде не испытывал ничего подобного и даже не думал, что в ласках может быть столько упоения, столько страсти. И он ощущал необыкновенное, удивительно полное счастье.
Потом, словно повинуясь инстинкту, он встал, отошел от нее, лег на кровать и закурил, а Карен смотрела на него из кресла и счастливо улыбалась. И хотя в этот раз между ними не было физической близости, он чувствовал себя счастливым. Не осталось ни досады, ни раздражения. Умиротворенный, спокойный, он лежал на кровати, курил, чувствовал, как его клонит в сон, и еще смутно чувствовал, что, несмотря ни на что, горд и доволен собой, словно одержал какую-то важную победу.