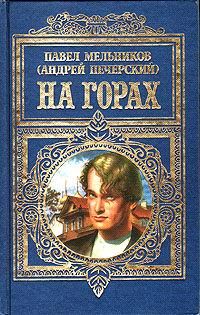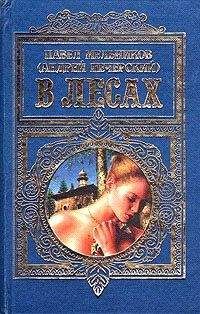Павел Мельников-Печерский - На горах
– Надо теперь говорить про дело, – сказал Чапурин, когда бутылка была опростана. – В людях водится, чтобы тотчас после рукобитья и первого благословенья судили-рядили, когда свадьбе быть, а также насчет приданого и другого прочего, как на первое время житье устроить молодым. Рукобитья у нас не было, да некому и по рукам-то бить – невеста сирота, да и жених все одно что сирота. Зато было у нас Божие благословение, на веки веков нерушимое. А это первое дело, много важней оно рукобитья. Станемте ж теперь, жених с невестой, толком говорить, как привести ваше дело к доброму совершению.
Все молчали.
– Насчет приданого я не судья, – продолжал Патап Максимыч. – В этом на Груню надо положиться, что сама сумеет, все сделает, чего не сумеет – у Марфы Михайловны попросит совета. Ладно ль придумано? Скажи, родная, – прибавил он, обращаясь к Дуне.
– Кому ж лучше Груни?.. – сказала невеста, потупив свои голубые глаза.
– А ты что, Груня, скажешь? – спросил Патап Максимыч.
– По мне, тятенька, не только в этаком случае, а всегда, во всю жизнь мою, рада я для Дуни всякие хлопоты на себя принять, – ответила Аграфена Петровна.
Молча обняла ее Дуня.
– Марфу Михайловну и я стану просить, не оставила бы нас в этом деле; оно ведь ей за обычай, – сказал Самоквасов. – У меня в городе дом есть на примете, хороший, поместительный; надо его купить да убрать как следует… А хотелось бы убрать, как у Сергея Андреича, – потому и его стану просить. Одному этого мне не сделать, не знаю, как и приступиться, а ему обычно. А ежель в городе чего нельзя достать, в Москву спосылаем; у меня там довольно знакомства.
– Покланяйся в самом деле Колышкиным, попроси – не откажут, – сказал Патап Максимыч. – Только, чур, делать все, как они посоветуют, а не по-своему. Сергей Андреич лучше знает, что и как надо: смолоду по-господски живет, а мы перед ним деревенщина. Твое дело взять: жил ты у дяди, ровно в мурье, только и свету у тебя было, что по скитам с подаяньями разъезжать да там загащиваться. Вот разве как в Москве да в Питере побывал, так, может, нагляделся, как хорошие люди живут. Одними деньгами тут ничего не возьмешь, тут нужны уменье да сноровка. Возьми, к примеру, Алешку Лохматого – сколько денег он на дом потратил, а все-таки вышло шут его знает что: обои золотые, ковры персидские, а на окошках, заместо хороших занавесок, пестрядинные повешены. Не нами, дедами и прадедами сказано: «Всяко дело мастера боится».
– Это так точно, Патап Максимыч, это речи справедливые и согласные, – отвечал Петр Степаныч. – Ежели бы Сергей Андреич согласился оказать мне милость, как же бы я мог делать по-своему? Не выступлю из его приказов.
– Проси же его, проси скорее, – сказал Чапурин, – а я и сам отпишу, чтоб он для тебя постарался.
Тем разговор и кончился, а жених с невестой все-таки при людях словечка не сказали, несмотря на старанья Патапа Максимыча и Аграфены Петровны.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Трое суток прогостил Чапурин у богоданной дочки. Собравшись в Осиповку, сказал он Дуне:
– У Груни кладовая-то деревянная, в подклете под домом, а строенье старое да тесное. Долго ль тут до беды? Ну как, грехом, случится пожар? А у меня палатка каменная под сводами и строена на усаде вдалеке от жилого строенья. Не перевезти ли до времени твои пожитки ко мне?.. Страху будет меньше. Как думаешь?
И Аграфена Петровна со своей стороны прибавила, что в Осиповке Дунино приданое не в пример будет сохраннее.
– Ведь у тебя в сундуках-то добра больше, чем на сто тысяч, Дунюшка, – сказала она. – Шутка ли это? Подумай. Тятенька придумал хорошо. Ты как решишь?
Дуня согласилась и благодарила Патапа Максимыча за его заботу.
В тот же день наняты были подводы и Дунины сундуки отправлены в Осиповку под надзором приказчика, заправлявшего делами Ивана Григорьича. За обозом отправился и сам Патап Максимыч. После того Дуня чаще и чаще виделась с женихом и стала с ним разговорчивей и доверчивей. Раза по два да по три на дню бывали у них молчаливые тайные поцелуи – нравились они Дуне, а об женихе и говорить нечего. Любила Дуня вспоминать с ним про катанье в косных по Оке и про то время, как видались они во время Макарьевской. Но, кроме того, ни о чем из прошлого Дуня речей не заводила.
А он другое вспоминал.
– Знаете ли вы, с коих пор полюбил я вас? – спросил он однажды у Дуни.
– Не знаю, – с самодовольной улыбкой отвечала она. – С той, может статься, поры, как мы с Дорониными в косных катались?
– Раньше, – сказал Самоквасов. – Полюбил я вас не за красоту, не за пригожество, а за ваши речи добрые и разумные. Помните ли вы про Ивана-царевича?
– Про какого Ивана-царевича? – спросила Дуня. – Про сказку, что ли, говорите?
– Да, про сказку, – отвечал Петр Степаныч. – Помните, как в Комарове, при вашей там бытности, на другой день после Петрова, Дарья Никитишна, середь молодых девиц сидючи, эту сказку рассказывала? Еще тогда Аграфена Петровна в девичьей беседе сидела.
– Припоминаю теперь что-то, – молвила Дуня.
– А как кончила сказку Дарья Никитишна, всем девицам она молвила: «Сказывайте по ряду одна за другой, как бы каждая из вас жила в замужестве, как бы с мужем свою жизнь повела». И стали девицы открывать свои мысли и тайные думы. Ни у одной не было хороших, разумных речей, опричь той, что после всех говорила. А говорила она вот что: «Замуж пойду за того, кого полюблю, и стану его любить довеку, до последнего вздоха, только сыра земля остудит любовь мою. А что буду делать я замужем, того не знаю, не ведаю. Одно знаю – где муж с женой в ладу да в совете живут, по добру да по правде, в той семье сам Бог живет. Он и научит меня, как поступать».
Дуня зарумянилась.
– Помню, теперь помню, – промолвила она, – но как же вы все это знаете? Вы ведь от слова до слова мои речи говорите? Груня, должно быть, рассказала вам.
– Не она, – ответил Петр Степаныч. – Не вспомните ли, чем девичья беседа кончилась?
– Чем кончилась? Посидели, поговорили да по своим местам разошлись, – сказала Дуня.
– А забыли, что Аграфена Петровна после ваших слов выглянула в окошко и сказала: «А у нас под окном в самом деле Иван-царевич сидит».
– Что-то припоминаю, – сказала Дуня.
– Я Иваном-царевичем был, я сидел на завалинке и от слова до слова выслушивал девичьи речи, – сказал Петр Степаныч. – И с того часу полюбил я вас всей душой моей. А все-таки ни в Комарове, ни в Нижнем потом на ярманке не смог к вам подступиться. Задумаешь словечко сказать, язык-то ровно замерзнет. Только бывало и счастья, только и радости, когда поглядишь на вас. А без того тоска, скука и мука.
– Видно, с того ко Фленушке в Комаров вы и уехали? – с хитрой улыбкой спросила его Дуня.
– Именно оттого, – ответил Самоквасов, – только Фленушку я и не видал почти тогда. При мне она постриглась. Теперь она уж не Фленушка, а мать Филагрия… Ну да Господь с ней. Прошу я вас, не помышляйте никогда о ней – было у нас с ней одно баловство, самое пустое дело, не стоит о нем и вспоминать. По правде говорю, по совести.
Привыкала Дуня к жениху, не стыдилась больше его и перестала отворачиваться, когда, любуясь на свою красавицу, он страстно целовал ее подернутые румянцем ланиты.
Через неделю Петр Степаныч поехал к Патапу Максимычу в Осиповку, а потом в город переговорить с Колышкиными. Он обещал невесте каждый праздник приезжать в Вихорево.
Прощаясь с женихом, Дуня, по настоянью Аграфены Петровны, сказала ему:
– Послушайте, что я скажу вам, Петр Степаныч. В прошлом году, еще прежде того как мы гостили в Комарове, Великим постом мне восьмнадцать лет исполнилось. На мои именины покойник тятенька одарил меня разными вещами. Тут было и обручальное колечко. И сказал он мне тогда: «Восьмнадцать лет тебе сегодня минуло – может статься, скоро замуж пойдешь. Слушай же отца: наши родители ни меня, ни мать твою венцом не неволили, и я не стану неволить тебя, – вот кольцо, отдай его кому знаешь, кто тебе по мыслям придется. Только смотри, помни отцовский завет, чтобы это кольцо не распаялось, значит изволь с мужем жить довеку в любви и совете, как мы с твоей матерью жили». И заплакал он тут, горько заплакал, ровно знал, что в круглом сиротстве придется мне замуж идти… Возьмите.
И со слезами на глазах подала ему кольцо.
Взволнованный Петр Степаныч стал целовать невесту.
Слов у него недоставало, зато радостные слезы красно говорили.
Поехал он. И только что съехал со двора, Дуне стало тоскливо и скучно.
* * *Когда Патап Максимыч воротился в Осиповку, у крыльца своего дома увидал он Василья Борисыча. Сидя на нижней ступеньке лестницы, строгал он какую-то палочку и вполголоса напевал тропарь наступавшему празднику Казанской Богородицы. Патап Максимыч сказал зятю: