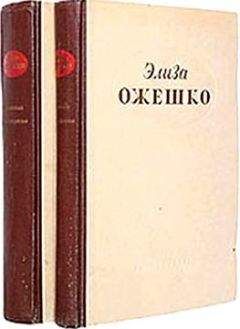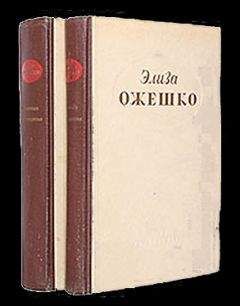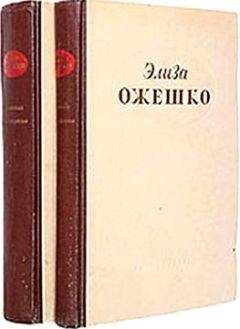Элиза Ожешко - Bene nati
Подходя к избушке Габрыся, она замедлила шаг, прислушиваясь к доносившемуся оттуда неустанному, равномерному стуку.
— Габрысь сечку режет!
Действительно, в полутемных сенях Габрысь, без кафтана, в холщевой рубахе, стоял у станка и, упираясь босой ногой в планку, одной рукой подвигал вязанку соломы, а другой рубил ее большим! ножом с деревянным черенком. Из-под ножа желтым ливнем сыпалась мелко нарезанная солома. На лбу его выступили капли пота, а черные усы топорщились над выпяченной от усилия губой и торчали между ввалившихся щек, словно пучок жесткой щетины. Вдруг за спиной его зазвенел свежий, звонкий голосок:
— Что это вы, Габрысь, не оденетесь поприличней, хоть и при резке сечки? Босиком, волосы растрепаны, рубашка расстегнута — будто какой нищий! Фи!
От смущения он выронил солому и нож и, как мальчишка, пойманный на месте преступления, стоял перед ней, опустив руки и потупив голову. Она, еще возбужденная шутками и комплиментами, от которых только что убежала, не сводила с него блестящих глаз; потом подошла ближе, откинула с его лба мокрые от пота волосы и завязала тесемки у ворота. Салюся очень любила Габрыся и любила тем сильней, чем больше люди презирали его, называя глупцом. Подчас ей становилось его жалко, что он такой бедный и одинокий, а подчас она и сама подшучивала над ним и смеялась, когда он, как, например, теперь, стоял, как жердь, весь красный, с повисшими руками и таращил на нее глаза, растерянно улыбаясь. Голос у него всегда был глухой и тихий — не то от робости, не то с непривычки разговаривать. Наконец он тихо, как обычно, спросил:
— Что, Салюся, зачем-нибудь я понадобился вам?
— Да нет же, просто мне захотелось вас проведать, а заодно уж и спрошу: дадите вы мне свой горшочек мирта на венок и букетики?
— Вы бы зашли в горницу да посмотрели его, а я за вами следом приду.
Повернув деревянную задвижку, она толкнула низкую дверь и вошла в горницу; сразу же ее обдало, словно волной, пряным запахом герани и гелиотропа. Запах казался тем сильней, что горенка была совсем маленькая. У стены стоял широкий топчан с сенником, покрытый домотканным одеялом, поверх которого лежала большая чистая подушка; над ним висела скрипка и рядом с ней несколько ярко размалеванных картинок. Кроме этого топчана, ветхого стола, на котором стояла лампа и стопка потрепанных книг, лавки и двух или трех стульев, больше ничего в горнице не было, да вряд ли и могло бы поместиться. Узкая дверца с высоким порогом вела в кухоньку, где еще топилась печь и у огня стояло два горшочка. Единственной роскошью этого тесного, убогого жилья было два больших окна, сверкавших чистотой, а единственным его украшением — стоявшие на окнах цветы. Да й их-то было немного: горшок отцветающей пеларгонии, весь в цвету гилиотроп, пышно разросшаяся герань и две мирты, которые уже не помещались на окне и стояли на лавке перед ним. Солнечные лучи пробивались сквозь зеленую! листву и лились на глиняный пол крупным золотым дождем. Тишина тут стояла ненарушимая; лишь изредка потрескивал в кухне огонь, да из усадьбы Осиповича доносился приглушенный расстоянием мерный стук цепов.
Салюся, улыбаясь, стояла в широкой полосе света, струившейся из окна; обеими руками она держала горшок с гелиотропом, вдыхая всей грудью аромат его мелких бледных цветов.
— Понравился вам мой гелиотроп? — послышался сзади глуховатый голос, — так вы возьмите его себе на новое хозяйство.
Габрысь стоял за ней, уже в кафтане и сапогах с отваливающимися подметками.
— Что же вы не посмотрите мирты?
— Ах, правда! У вас теперь уже два, а прежде был один!..
Бережно касаясь пальцами мелких миртовых листочков, Габрысь, улыбаясь, ответил:
— Два у меня; тот, что постарше, я посадил девять лет тому назад. Вы еще тогда были маленькая, а я и подумал, что он как раз к тому времени вырастет, когда вы будете замуж выходить. А потом, годика три назад, я посадил второй, чтобы вам хватило и на свадебный венок и на букетики для дружек.
— Так вы нарочно для меня их растили?
— А как же! — ответил он с таким удивлением, как будто предполагать, что могло быть иначе, было неслыханной дичью.
Салюся вертелась по комнате и безумолку щебетала:
— Красиво тут у вас, тесно, а красиво, потому! что чистенько и очень хороши цветы. А почему вы себе каких-нибудь птичек не заведете, щеглов или чижиков? Вот весело бы было, если б они чирикали среди зелени.
— Не могу я, жалею их, — отвечал Габрысь. — Птицам в клетке — мука страшная. Да и к чему? У меня под крышей зимует видимо-невидимо воробьев; я им сыплю из окна высевки… Как посыплю, они тучей налетают и давай зернышки в мякине отыскивать, да хватать, да отнимать друг у дружки — потеха! Почти как люди! Наедятся — и улетают, а может, потом в своих гнездышках потаенных благодарят руку, их напитавшую.
Салюся, нюхая мохнатые листья герани, засмеялась.
— Ну, так воробьи лучше людей. Люди-то, кажется, никогда вас не благодарят за то, что вы ради них разорились. Слыхала я, братец вас и не навещает, а племяннички еще и насмехаются над вами! Правда это?
— Правда! — ответил он и махнул рукой, но заметив, что она отвернулась от цветов, поспешно напомнил:
— Вы еще моих собачек не видели.
Он отворил дверь в сени и кликнул:
— Саргас! Вильчек!
Две лохматые дворняжки влетели в горницу и, весело виляя хвостами, стали увиваться вокруг его высоких порыжевших сапог. Салюся стала звать их к себе, особенно Саргаса: это был старый пес, с которым она проказничала, когда еще была подростком. А Габрысь, должно быть, снова что-то вспомнив, воскликнул с необычной живостью:
— Голуби у меня прекрасные… белёшенькие, как снег… Хотите поглядеть? Я мигом принесу.
Видно было, что он жаждал показать ей все свои богатства, развлечь и потешить ее всем, что имел и любил.
С проворством юноши он выбежал в сени, и тотчас послышались его тяжелые шаги по лестнице, ведущей на чердак. Между тем, Салюся, продолжая осматривать горенку, остановила взгляд на скрипке, висевшей над постелью. Вскочив на топчан, она сняла ее со стены и ударила смычком по струнам. Раздался резкий, пронзительный звук, Салюся звонко расхохоталась. Вошел Габрысь, неся в обеих руках белого голубя; увидев ее со скрипкой в полосе света, падавшего из окна, он застыл на пороге с разинутым ртом, подняв на нее восхищенный взор. Но она уже соскочила на пол и, бросив скрипку на постель, очутилась подле него.
— Ах, какой прелестный голубок, какой милый! — восклицала она, целуя пунцовыми губками клюв спокойной ручной птицы. Нежно касаясь рукой белоснежных перышек, она опустила! голову, и тогда упавшие косы ее коснулись низко склоненного лица Габрыся. Вдруг она подняла глаза и, встретившись с его глазами, сразу затихла. С этого длинного исхудалого лица, изборожденного мелкими морщинками, на котором топорщился пучок жестких усов, на нее смотрели молодые черные глаза, огневые глаза Осиповичей, но теперь в них были нежность и глубокое волнение. Над этими глазами, на морщинистом лбу то выступали, то снова исчезали красные пятна. Салюся притихла, оставила голубя и, отойдя в сторону, села на лавку у стола, подперев голову рукой. Она вдруг загрустила, но совсем, совсем не оттого, что заметила необычное выражение на лице Габрыся. Ей и в голову не пришло отгадывать, что он думал или чувствовал, когда смотрел на нее с таким волнением. Да что он там мог особенного думать или чувствовать? Взгрустнулось ей оттого, что в эту минуту глаза Габрыся напомнили ей другие глаза, оставшиеся, как ей казалось, в далеком прошлом. То же самое с ней бывало всякий раз, когда она слышала громкий смех двоюродного брата, который — надо же случиться! — был так похож на смех человека, тоже оставшегося в далеком прошлом! Подобные случайности происходили с ней нередко. Иной раз кто-нибудь скажет слово, сделает какое-то движение, посмотрит на нее необычно — да что: иной раз ветер повеет, нахмурится небо, лампа замигает — и вот ей уже вспомнился он, или какой-нибудь разговор с ним, или даже минута, которую они вместе провели, тоже навеки канувшая в прошлое.
Габрысь выпустил голубя в сени и только было хотел подойти к Салюсе, как на кухне кто-то закряхтел и протяжно застонал:
— Габрысь! Дай травки! Ох, господи, господи! Так тут и помрешь без капли воды! Габрысь, да побойся ты бога, что ж ты меня бросаешь, даже горшочка с настойкой не допрошусь… Габрысь! Ох-ох-ох-ох!
Он уже скрылся в кухне, и через узкие дверцы было видно, как он кому-то поспешно подавал какой-то горшочек, и было слышно, как он кому-то тихо сказал несколько слов. Но вот воркотня и стоны затихли, Габрысь вернулся в горенку и сел на топчан.
— Тетка заболела? — спросила Салюся.
Он кивнул головой.
— А вы ухаживаете за больной?
Габрысь не ответил. Он смотрел на нее, но уже не так, как за минуту до этого: пристально и тревожно. Теперь, когда она перестала весело щебетать и, нахмурясь, сидела в задумчивости, подперев голову рукой, видно было, как она изменилась. Ее личико, свежее как майская роза, слегка осунулось, и под глазами легли темные круги. Словно тень или легкая дымка затмила блеск ее цветущей, прекрасной юности; алые губы побледнели и были печальны. Она молчала, уставясь в землю. Габрысь тихо спросил: