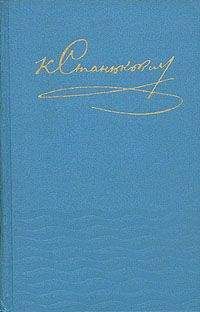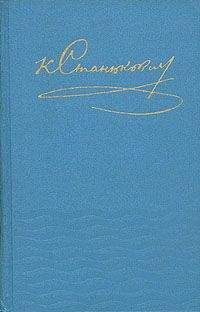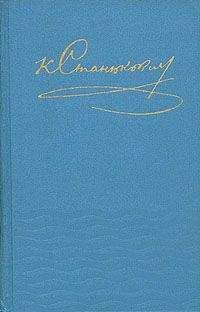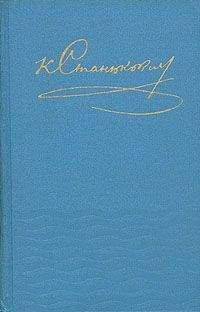Константин Станюкович - Жрецы
Красивая миллионерша предлагала ему свои услуги. В Петербурге у нее есть один знакомый влиятельный человечек, которому она напишет, если бы вследствие «подлой заметки» Николаю Сергеевичу грозили какие-нибудь неприятности.
Как ни нелепы были нападки на Заречного, но они заставили Николая Сергеевича струсить и, признаться, малодушно струсить. Встревожились статьей и некоторые профессора, говорившие речи и даже не говорившие речей, но бывшие на юбилейном обеде. Один только Звенигородцев, в качестве человека свободной профессии, обнаружил геройство и требовал коллективного протеста против статьи, назвавшей его гороховым шутом.
Захватив с собою Заречного, Звенигородцев привез его в квартиру одного из профессоров, где по инициативе Ивана Петровича должно было состояться совещание. Собрались, однако, далеко не все. Юбиляра решительно не пустила супруга, уже успевшая в течение дня донять Андрея Михайловича упреками, как только прочитала статью «Старейших известий».
Нужно было ему праздновать этот дурацкий юбилей. Теперь, того и гляди, выгонят его. Автор заметки совершенно прав, назвавши Андрея Михайловича человеком «святой наивности», то есть иными словами дураком… Дурак старый он и есть!
Андрей Михайлович терпеливо отмалчивался, но когда Варенька потребовала, чтобы он на другой день непременно поехал к попечителю объясниться, то «старый дурак» так решительно ответил, что ни к кому объясняться не поедет и на старости лет унижаться не станет, что Варенька вытаращила от удивления глаза.
— И я плюю на статью! — прибавил с презрительной гримасой старый профессор.
Из числа всех позванных Звенигородцевым на совещание собралось только человек десять профессоров. Они, разумеется, тщательно скрывали друг от друга свою тревогу и вместе с Заречным говорили, что следует отнестись с презрением к инсинуациям какого-то мерзавца, но далеко не у всех было одно только презрение, как у старого скромного профессора Косицкого.
У многих был тот, исключительно свойственный русским, преувеличенный страх за свое положение, который заставляет нередко и умственно смелых людей видеть опасность даже и там, где ее нет, и чувствовать себя без вины виноватыми. Все понимали, что лживость статьи вне сомнений и что она не может возбудить недоразумений, тем более что празднование юбилея было официально разрешено, и все-таки трусили.
И лишь только появилась статья, как уж некоторые из жрецов науки, считавшие себя хранителями заветов Грановского, малодушно каялись, что были на юбилейном обеде, а двое, более струсившие профессора, не явившиеся в собрание, уже успели утром показаться начальству, чтоб узнать, как оно отнеслось к газетной заметке, и кстати пожаловаться, что в ней их назвали «либеральными проходимцами».
Собравшиеся на совещание первым делом занялись расследованием: кто мог быть автором заметки. Очевидно, это кто-нибудь из врагов Николая Сергеевича, которому более всего досталось. Но Заречный решительно не мог назвать никого, внушавшего подозрение. И даже сам Иван Петрович Звенигородцев, хвалившийся, что все знает, на этот раз должен был сознаться в безуспешности своих разведок, начатых еще утром. Но он обещал все-таки во что бы то ни стало узнать имя автора, чтоб его остерегались порядочные люди.
Несмотря на предложение Звенигородцева написать коллективный протест против статьи и привлечь к подписи возможно большее количество лиц, решено было оставить статью без ответа, как не достойную даже и опровержения. На этом настаивали все, и Иван Петрович так же быстро взял назад свое мнение, как и предложил его. Но указать передержки, сделанные в речах Заречного и других профессоров, обязательно следовало, по единогласному мнению всех присутствовавших.
Заречный тут же написал короткое письмо в редакцию «Ежедневного вестника», ограничившись в нем только наглядным сопоставлением извращенных мест речей с действительно произнесенными, и не прибавил к этому ни строчки, что придавало письму импонирующую фактическую краткость и как бы оттеняло полное презрение к автору отчета, которого не удостоивали даже ни единым словом, лично к нему обращенным.
Все вполне одобрили редакцию письма.
— Разумеется, мы все его подпишем! — произнес неожиданно со своею обычною застенчивою улыбкой Сбруев, во все время не проронивший ни звука и, казалось, занятый лишь чаем.
В тоне его голоса было что-то вызывающее, точно он не был уверен в общем согласии и своим вызывающим уверенным тоном надеялся подбодрить более малодушных коллег.
Все удивленно взглянули на Сбруева, который вдруг заговорил, да еще так решительно и притом не разбавляя чая коньяком.
Прошла долгая минута тягостного неловкого молчания. Многие опустили долу глаза. Видимо, предложение Сбруева не понравилось, но ни у кого не хватало мужества прямо об этом сказать.
— Надеюсь, из-за этого мы ничем не рискуем! — прибавил Сбруев с добродушно-иронической усмешкой.
— Тут не в риске дело, Дмитрий Иваныч, — наконец заговорил тот самый старый профессор Цветницкий, который на юбилее уверял своего друга Андрея Михайловича, что оба, наверно, были бы министрами, если б жили не в России, а в Англии. — Тут не в риске дело, дорогой коллега! — повторил плотный коренастый старик, понижая свой зычный голос. — Мы все, разумеется, не остановились бы и перед риском, если б того требовала наша честь.
«И врет же старая бестия!» — пронеслось в голове Сбруева.
— А в данном случае и риска никакого нет, и я, разумеется, охотно подписался бы под письмом, хотя моя речь и не удостоилась издевательства и извращения. Но не придадут ли все наши подписи письму несвойственный ему и нас недостойный характер протеста? И деликатно ли это будет относительно наших отсутствующих товарищей? Подпиши все мы письмо, они могут обидеться, что их не включили, а собирать теперь подписи всех коллег, бывших на обеде, поздно… Как вы полагаете, господа?
Коллеги, втайне обрадованные, что Цветницкий так ловко ответил на предложение Сбруева и дал им возможность под благовидным предлогом увильнуть от подписи, согласились с мнением Цветницкого. И сам Заречный, трусивший после статьи всяких намеков на протесты, находил, что подписаться под письмом должны только те, чьи речи извращены.
Сбруев только пожал плечами и потянулся за коньяком.
Совещание, как водится, окончилось ужином. Но разошлись рано. Все, по-видимому, были не в особенно веселом настроении.
На следующий день в «Ежедневном вестнике», впереди письма Заречного и двух его коллег, было напечатано и письмо профессора Косицкого. В теплых, искренних строках он горячо благодарил всех почтивших его вниманием в день юбилея и особенно коллег, «сочувствие и уважение которых он считает высшей для себя честью и лучшей наградой за свою скромную тридцатилетнюю деятельность».
Варенька так и ахнула, когда прочла заключительные строки письма, являвшиеся словно бы ответом на обвинение Андрея Михайловича в дружбе с «либеральными проходимцами». Он точно нарочно публично подтверждал эту дружбу, бросая вызов газете, пользующейся фавором у некоторых влиятельных лиц.
«О двух он головах, что ли!» — подумала Варенька и, взбешенная, явилась в кабинет и задала мужу настоящий «бенефис», как называл Андрей Михайлович особенно бурные сцены, учащавшиеся по мере того, как профессор старел, а профессорша, несмотря на свои сорок пять лет, еще молодилась и, похожая на гренадера в юбке, здоровая и монументальная, хотела осень своей жизни превратить в весну.
Чувствуя себя до некоторой степени виноватым перед Варенькой и побаиваясь-таки ее, старый профессор с обычной покорностью выслушал град ругательств, упреков и застращиваний, что такого дурака, как он, непременно выгонят из университета. Лишь время от времени он подавал реплики, чтобы молчанием не довести жену до истерики, которая особенно пугала его, так как сопровождалась самыми оскорбительными для Андрея Михайловича прозвищами, вроде «старой тряпки», «старой бабы» и «дохлого мужчины».
Получив добрую порцию сцен, Андрей Михайлович в одиннадцать часов пошел в университет и, несмотря на «бенефис», чувствовал себя после напечатания своего письма как-то особенно легко и спокойно.
И это чувство удовлетворенной совести и сознания исполненного долга сказалось еще сильнее, когда студенты встретили старика профессора почтительными рукоплесканиями, а после лекции в профессорской комнате к нему порывисто подошел Сбруев и, с какой-то особенной почтительностью пожимая руку, застенчиво и взволнованно проговорил:
— Какой достойный ответ на подлую статью в вашем письме, Андрей Михайлович.
XVII
В это утро после юбилея Аристарх Яковлевич Найденов, по своему обыкновению, с шести часов уже сидел за громадным письменным столом и при свете лампы усердно просматривал «архивные бумажки», собирая материалы для нового своего исследования.