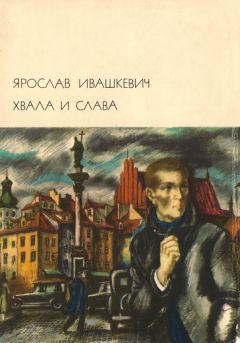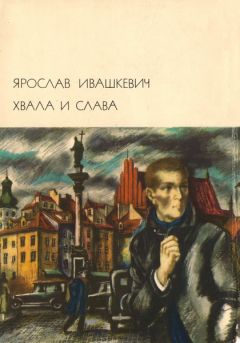Ярослав Ивашкевич - Хвала и слава. Книга вторая
Ночью Януш не спал, вспоминая поездку из Маньковки двадцать два года назад. И так как ехал он почти той же самой дорогой, названия станций, окрестный рельеф, сам ритм поезда, который почти не изменился, — все это вызывало в памяти подробности, казалось, давно уже забытые. Теперь он вспомнил — хотя еще неделю назад не смог бы этого сказать, — на каких лошадях приехал на станцию, как была обита бричка и кто сидел на козлах. Помнил, как он был одет: серый, вернее, темно-сизый костюм, высокий воротничок (стоячий, разумеется, а как же иначе!) и зеленый галстук. Порой, когда он закрывал глаза, ему казалось, особенно если он задремывал, что это та самая поездка и что вскоре он познакомится с Ариадной, завяжет дружбу с Эдгаром. А Володя? Ведь и он должен быть где-то тут.
Когда утром Януш вылез на вокзале, им тут же завладела представительница «Интуриста», маленькая и черненькая Фанни Наумовна. Она безапелляционно заявила ему, что он находится под ее опекой, действительно доставила его, словно багаж, в гостиницу и, лишь устроив его там после длительных переговоров с различным начальством, которого было удивительно много — почти на каждом этаже, — распрощалась с ним. Гостиница эта — прежний «Континенталь» — ныне называлась «Москва». Только теперь, оставшись один в огромном, высоком номере с аркадами окон, Януш почувствовал себя усталым и захотел спать. Он разделся, лег в постель и уснул так крепко, что, проснувшись, не мог понять, где находится. Громадная кровать и высокий потолок показались ему кошмарным видением. Длилось это довольно долго, пока он не пришел в себя.
Окончательно разбудил его телефонный звонок. Фанни Наумовна на безупречном французском (Януш сделал вид, что совершенно забыл русский язык) осведомлялась, какие у него планы на вторую половину дня. Януш ответил, что никаких планов у него нет, и попросил своего гида зайти к нему около семи, чтобы вместе поехать куда-нибудь поужинать.
— Сегодня так жарко, — сказала Фанни Наумовна, — поедем на террасу.
— Как вам угодно, — согласился Януш, — можно и на террасу. А где это?
— Недалеко, в новой гостинице «Ленинград».
— Чудесно.
Януш с готовностью согласился, поскольку ему это все равно ничего не говорило. Он встал, оделся и вышел на улицу. Еще с утра, сразу же по приезде, у него было такое чувство — сейчас оно только еще больше укрепилось, — будто он находится в абсолютно чужом, незнакомом городе. Хоть он и не вырос со времени своего отъезда из Одессы, город показался ему куда меньше и ниже, чем прежде, и, к тому же, населенным людьми, которые выглядели как-то совсем экзотически. Все в одинаковых парусиновых туфлях, в выгоревших темно-синих брюках и каких-то причудливых рубашках. Кроме того, его удивило, что у всех в руках портфели. За каким чертом им эти портфели?
Толпа не была унылой, наоборот, по-южному оживленной, а женщины (прославленные одесситки) были очень хорошенькие. Только все это показалось ему абсолютно чужим, непонятным. Януша поразило отсутствие красок. Упаковка, бумаги, девичьи платьица, туфли, конфеты — все было одинакового линялого цвета. Это было самым непривычным. Поэтому он отыскивал глазами стоящие на углах деревянные столы на колесиках, заваленные грудами клубники и малины. Сочный цвет ягод как-то радовал.
Но в особенности озадачивало то, что на улицах было столько народу. Это неустанное, торопливое кружение вызывало в памяти стихи Пушкина:
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Тротуары сплошь были забиты людьми, все они шли торопясь, не глядя по сторонам, обгоняя друг друга, неслись к какой-то не совсем понятной цели.
Он заглядывал в лица и везде видел одно и то же: торопливость и озабоченность. Напряжение читалось на этих лицах. Губы были стиснуты, и глаза избегали постороннего взгляда; особенно эта замкнутость на три запора была заметна у людей пожилых. Молодые вели себя так, как все молодые: смеялись. Парни заглядывались на женщин. Но Януш не мог определить, кто они — портовые рабочие, молодые служащие или студенты. И все такие низкорослые, юркие и такие чужие, абсолютно чужие. А ведь когда-то он чувствовал себя в этом городе как дома. Довольно скоро вернувшись в гостиницу, он стал ждать Фанни Наумовну, ломая голову над тем, что сказать ей на вопрос, зачем он приехал в Одессу. Но Фанни Наумовна не задала этого вопроса, словно это не интересовало ее или она и без того знала, в чем дело. Она только спросила, что бы он хотел увидеть.
— Разумеется, море, — ответил Януш. — Поедем завтра с утра на пляж, за город.
Не задала Фанни Наумовна и вопроса, казалось бы, такого естественного — не спросила, знает ли он Одессу.
Януш сказал, что хотел бы посетить «дачную местность», и она предложила поехать завтра «на Фонтаны».
— Видите ли, здесь есть три так называемых Фонтана… — начала было она объяснять, но вдруг осеклась и взглянула на Януша. Ясно было, что она знает все.
Но она знала не все. В этом Януш убедился в тот же вечер, когда они пошли ужинать.
Они расположились на террасе большого здания. За соседними столиками сидели люди, такие же неопределенные, как на улице. Разве что в них узнавались приезжие. Из Москвы, из Ленинграда — из столиц.
Но Янушу тут понравилось. Как в сервировке, так и во внешности официантов еще сохранилось что-то от былых времен. Сами столы напомнили ему главный обеденный зал в Казатине, узловой станции, через которую он проезжал всякий раз, когда направлялся в Киев или Житомир. На этой террасе, огражденной с одной стороны высокой стеклянной стеной и маркизами, царил точно такой же запах, как в Казатине: запах украинского борща со сметаной и пирожков с капустой. Ему захотелось разломить такой пышный пирожок и услышать запах капустной начинки с рисом и рублеными грибками. И он заказал бульон с пирожками, обольщая себя надеждой, что они будут точно такие же, как в Казатине. Но хотя пальмы в больших кадках были такие же, и жесткие, накрахмаленные салфетки тоже были точно такие же, как когда-то на станции, и официант, любезный и предупредительный, точной такой же, как тогда, когда Януш сидел с отцом за овальным центральным столом, — пирожки оказались совсем не такими, а из плохой муки, непропеченные. И хотя на террасе царил аппетитный запах старой ресторации, начинка пирожков была лишена этого аромата. Фанни Наумовна велела подать какого-то крымского вина, Хорошо охлажденное, в высоких бутылках, оно показалось Янушу великолепным. Он пришел в хорошее настроение и принялся подшучивать над своим гидом; ведь получается, что, разгуливая с иностранцами по Одессе, она ведет буржуазный образ жизни.
Фанни Наумовна вздохнула.
— Вы забываете, что у меня хватает своих, домашних забот.
Произнесла она это так искренне, что Янушу сделалось неловко.
Он выпил еще бокал чудесного вина.
И вот тут он почувствовал, что кто-то пристально смотрит на него. У самой стеклянной стены сидел какой-то военный. Рядом с ним двое детей, вернее, уже подростков. Девочке было лет пятнадцать, мальчику около двенадцати, оба ярко выраженные брюнеты, в эту минуту они были просто поразительно по-южному красивы. Впрочем, даже при мимолетном взгляде на этих ребятишек становилось ясно, что красота эта мимолетная и сохранится недолго. Отец их, этот самый военный, вероятно, когда-то так же был красив. Сохранились только большие, влажные, южные глаза, столь выразительные у жителей Кавказа, глаза серны, глаза, встречающиеся иногда у русских танцовщиц. Но теперь глаза эти смотрели с совсем уже расплывшегося лица, когда-то резко очерченный нос стал теперь совершенно бесформенным, само лицо одрябло, под подбородком и под ушами образовались неприятные складки.
Сначала Януш делал вид, что не замечает устремленного на него пристального взгляда военного. Не разбираясь в советских знаках различия, он не мог определить, какое звание у сидящего напротив него человека. Януша занимали только эти очаровательные дети. Девочка упрашивала, чтобы ей налили хоть немного вина, но отец, видимо, не соглашался; потом она, видя, что отец не обращает на них внимания и упорно смотрит куда-то в пространство, занялась братом. А братишка ее был изумительный: ладный, невысокий, с огромными черными глазами, с сосредоточенным, худым, породистым лицом, полным непередаваемого обаяния. Какой-то блеск в его глазах напомнил Янушу что-то давнее и смутное. То, как он театрально вскидывал глаза (мальчик явно играл, играл на отца, на сестру, на официанта — дальше его намерения не шли, на окружающих он не обращал никакого внимания, чувствуя себя как дома), отчетливо напомнило Янушу вечер в Одессе, и он бессознательно произнес давно забытую строфу:
О, красный парус
В зеленой да́ли!
Черный стеклярус
На темной шали!
Фанни Наумовна улыбнулась: