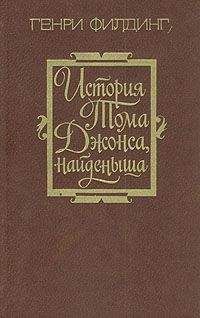Генри Филдинг - Так ли плохи сегодняшние времена?
В заключение предыдущего моего письма я заявил, что итог хорошего воспитания есть не что иное, как то исчерпывающее и благородное правило, к коему, по словам высочайшего авторитета, сводится вся религия и вся нравственность.
Тут, однако, моим читателям будет отрадно приметить, что, так как хорошее воспитание выражается в поведении, только им мы сейчас ограничимся. Посему, быть может, мы будем лучше поняты, ежели переменим слово и прочтем так: Ведите себя с другими так, как вам хотелось бы, чтобы они вели себя с вами.
Это всенепременно обяжет нас обходиться с человечеством крайне любезно и почтительно, ничего не желая более того, чтобы оно так же обходилось с нами. Это весьма успешно обуздает потворство тем буйным и беспорядочным страстям, которые, как мы тщились показать, суть истинные семена юмора, зароненные в сознание человека; росту которых хорошее воспитание надежно воспрепятствует или, по меньшей мере, так затмит и потеснит их, что они не посмеют показаться. Честолюбие, скупость, гордыня, тщеславие, гневливость, склонность к распутству и чревоугодию — все это уничтожится в хорошо воспитанном человеке; или, если Природа иной раз и выглянет наружу, она скроется через мгновение и уже не решится показаться на посмешище.
Юмор же происходит от вовсе противоположного поведения: мы бросаем поводья на шею нашей излюбленной страсти и отпускаем ее на волю. Остроумный аббат, я цитировал его прошлый раз, превосходно показывает это на образцах дурного воспитания, кои он приводит в виде первого явления Смехотворного. «Дурное воспитание (l’impolitesse), — говорит он, — есть не единый порок, но следствие многих пороков. Иной раз это вызывающее незнание приличий или глупая леность, не дозволяющие нам дать другим то, что им положено. Это строптивое злонравие, побуждающее нас перечить склонностям тех, с кем мы общаемся. Это последствие бессмысленного самолюбия, не дающего уступить ни единому человеку; плод спесивого и затейливого юмора, назначившего себя превыше всех правил приличия; или, наконец, оно порождается меланхолическим складом ума, который ублажает себя (qui trouve du ragout) грубым и заносчивым поведением».
Показав, как мне кажется, очень ясно, что хорошее воспитание есть и должно быть настоящим проклятием для Смехотворного, то бишь для всех юмористических проявлений, будет, наверное, не слишком трудной задачей обнаружить, почему эта характерная черта была исключительным образом причтена этой нации.
Для этого я приведу всего две причины, ибо они видятся мне всецело достаточными и сообразными моему намерению.
Первая причина есть столь распространенная в этом королевстве манера не давать никакого образования юношеству обоих полов; я говорю лишь «распространенная», ибо она не без изъятий.
Куда более многочисленная часть знатных юношей возвращается из школы пятнадцати или шестнадцати лет, весьма немногим мудрее и вовсе не лучше оттого, что были отправлены туда. Кто-то возвращается в родные места, в отцовские поместья, где бега, петушиные бои, охота и прочие сельские забавы наряду с курением, выпивкой и вечеринками делаются их обычным времяпрепровождением и составляют все дело и радость их будущей жизни. Другие сбегают в город, к развлечениям, модам, безумствам и порокам, чему они немедля приобщаются. Кто-то и завершает образование в этих «академиях», тогда как других их более разумные родители посылают за границу, дабы те прибавили знание развлечений, мод, безумств и пороков всей Европы к знанию отечественных.
Итак, нам должно выявить главных, основных персонажей юмора, каковые суть шут и фат, и оба едва ли не до бесконечности многообразны в соответствии с различными страстями и естественными наклонностями каждой отдельной особы; и соответственно с их положением. К примеру, различие огромно в зависимости от того, принадлежит ли сельский помещик к вигам или тори; предпочитает ли он женщин, выпивку или собак; и доведется ли городскому щеголю служить своей стране в качестве государственного мужа, придворного, солдата, моряка или, возможно, церковника (ибо набором из этой «академии» пополняются все эти должности); или, в последнюю очередь, удовольствуется ли его самолюбие наименованием «щеголя».
Иным из наших юношей, впрочем, суждено продолжить обучение; эти не только принуждены к более длительному труду в школе, но посылаются потом в университет. Там, если захотят, они могут продолжать читать книги; а захотят (как большая их часть и поступает) — могут бросить это занятие и последовать примеру своих старших братьев, что городских, что сельских.
Это предмет, к которому я подступлюсь с большим разбором, ибо я определенно придерживаюсь того мнения, что университетское образование относится к лучшему из того, что мы имеем; потому как там, по меньшей мере, юношеским наклонностям кладутся известные пределы. Охотник, игрок и пьяница не смогут дать своей блажи такую волю, как если бы они находились дома, лишенные всякого общественного надзора; и наш щеголь, расположенный к городским увеселениям, не найдет ни игорных домов, ни театров, ни половины таверн и веселых домов, каковые им предоставит Ковент-Гарден.
Но при этом — надеюсь, никого не оскорбляя, — скажу, что пока что среди колледжей в университетах нет ни одного, где бы обучали науке хорошего воспитания; где бы читались лекции, подобные блистательным урокам Смехотворного, которые я поминал выше и настоятельно рекомендую моим юным читателям. Потому-то ученые профессора и являют собою отменные образчики юмора, а невежество докторов, правоведов и священников, сколь бы имениты и почитаемы они ни были, поставляют славные истории на потеху тесного круга, а то и всего общества.
Теперь я подхожу к прекрасной половине творения; о ней едва ли, по моему убеждению, можно сказать, что она (в основном) имеет какое бы то ни было образование (в том смысле, в котором я здесь пользуюсь этим словом).
В отношении другой половины моего сельского сквайра, то есть сельской помещицы, я предполагаю, что за вычетом учителя танцев и, может быть, умения кое-как читать и писать, существует весьма малое различие между образованием дочери сквайра и его доярки, которая, вернее всего, является ее ближайшей подругой; более того, малое это различие, я опасаюсь, будет не в пользу первой, которую постоянные славословия ее красоте и богатству делают самым тщеславным и заносчивым созданием на свете и которой в то же время с таким усердием внушаются принципы застенчивости и робости, что та начинает стыдиться и бояться сама не знает чего.
Если каким-то образом это несчастное существо впоследствии оказывается, так скажем, в миру, каким смешным должно быть ее поведение! Если на нее посмотрит мужчина, она смущается; а если он заговорит с нею, она пугается до безумия. Она ведет себя, коротко говоря, так, словно полагает весь другой пол вовлеченным в заговор с целью обладания ее персоною и ее состоянием.
По правде говоря, эта бедная девушка, какой бы она ни виделась особам ее собственного пола, в особенности если она хороша собою, составляет скорее предмет сострадания, нежели насмешки; но что мы скажем, когда время, или замужество, истребит застенчивость и страх и когда невежество, несуразность и неотесанность украсятся вычурностью той же меры — пусть и иного, быть может, вида, — что бытует при дворе? Вот обильный источник того смешного, что мы находим в натуре сельской помещицы.
Все это, я полагаю, будет с готовностью допущено; но отрицать хорошее воспитание у городской дамы может оказаться небезопасным. Учители чтения, письма и танцев, и преподаватели французского и итальянского языков, и учители музыки, а с недавних пор учители игры в вист сообща образуют этот характер. Отсутствует, боюсь, единственно учитель хороших манер. И каковы же последствия? Не только застенчивость и страх делаются совершенно покорены, но заодно пропадают и скромность с благоразумием. Столь далекая от того, чтобы бегать от мужчин, она бегает за ними; и вместо того чтобы залиться краскою, когда благопристойный мужчина глядит на нее или заговаривает с нею, она оказывается в силах, безо всякого волнения, взглянуть в глаза нахалу и иной раз произнести нечто могущее, если он не слишком нахален, вогнать в краску его самого. Таковы приятные составляющие, из которых складывается гумор решительной городской дамы.
Я не могу расстаться с этою частью моего предмета, с которой я был вынужден обращаться чуть более свободно, чем бы мне хотелось: с прекраснейшей частью творения, — не оборонив свою собственную репутацию хорошо воспитанного человека указанием на то, что эта последняя крайность чрезвычайно редка; и что всякая моя читательница или уже являет, или может, когда ей угодно, явить собою образец противоположного поведения.
Вторая важная причина изобилия юмора в этом народе видится мне в том, что торговля каждодневно возводит в звание джентри великое число людей, не получивших вовсе никакого образования; или, выражаясь не столь резко, не состоявших ни в каком обучении, приличном этому званию. Но я столь подробно остановился на первом основании, что уже не имею возможности порицать еще и это; не имею я и настоящей надобности — ибо большая часть читателей, опираясь на сделанные мною намеки, без труда вообразит себе множество юмористических персонажей, коими эдак наполнилось общество. Я закончу пожеланием, чтобы этот превосходный источник юмора по-прежнему оставался при нас, ибо пусть он и может сделать нас несколько смешными, он, безусловно, сделает нас и предметом зависти для всей Европы[90].