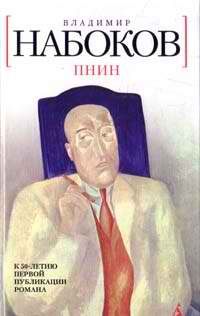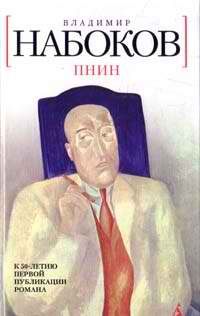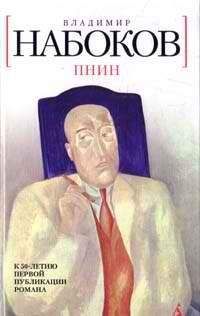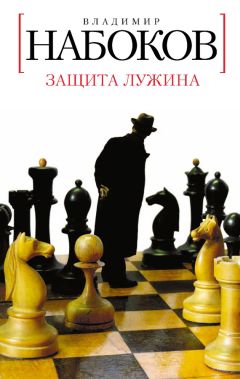Владимир Набоков - Пнин
2
Эл Кук был сыном Петра Кукольникова, богатого московского купца из старообрядцев, мецената и филантропа, до всего дошедшего своим трудом, — того самого Кукольникова, что при последнем царе дважды посажен был в крепость, довольно, впрочем, комфортабельную, за оказание финансовой помощи разным группам социал-революционеров (главным образом, террористов), а при Ленине, в завершение чуть не целой недели средневековых пыток в советской тюрьме, был казнен как "агент империализма". Семья его перебралась в Америку через Харбин году в 1925-м, и молодой Кук, благодаря своему спокойному упорству, практической сметке и некоторой научной подготовке, достиг высокого и надежного положения в большом химическом концерне. Добродушный, очень сдержанный человек плотного сложения, с большим неподвижным лицом, перевязанным посередке маленьким аккуратным пенсне, он и выглядел соответственно тому, что собой представлял — деловой администратор, масон, любитель гольфа, человек процветающий и осторожный. Он говорил на замечательно правильном и нейтральном английском лишь с легчайшею тенью славянского акцента и был восхитительный хозяин, из тех молчаливых хозяев, что встречают гостя, дружелюбно подмигивая, со стаканом виски в каждой руке, и лишь изредка, когда кто-нибудь из очень старых и близких его русских друзей засидится за полночь, заводил вдруг Александр Петрович спор о Боге, о Лермонтове, о Свободе, и тогда обнаруживал наследственную жилку бесшабашного идеализма, который немало смутил бы марксиста, подслушавшего такой разговор.
Женился он на Сьюзен Маршал, красивой, разговорчивой блондинке, дочке изобретателя Джорджа Дж. Маршала, и может, оттого, что трудно было представить себе Александра и Сьюзен иначе как во главе многодетного здорового семейства, и я, и другие любящие их друзья были просто потрясены, узнав, что вследствие какой-то операции Сьюзен никогда не сможет иметь детей. Они были еще молоды и любили друг друга с какой-то старосветской простотой и цельностью, наблюдать которые было весьма отрадно, и вот, вместо того чтоб населить свой деревенский дом детьми и внуками, они собирали здесь раз в два лета пожилых русских (так сказать, отцов и дядюшек Кука); в нечетные годы у них здесь гостили amerikanskï деловые знакомые Александра или родственники Сьюзен и ее друзья.
Пнин впервые ехал в Сосны, но я-то уже бывал там раньше. Усадьба кишмя кишела русскими émigré — либералами и интеллектуалами, покинувшими Россию около 1920 года. Их можно было увидеть здесь на каждом пятачке крапчатой тени, сидящих на грубых деревенских скамьях и обсуждающих эмигрантских писателей — Бунина, Алданова, Сирина{71}; лежащих в гамаках с лицом накрытым русскоязычной газетой — традиционная защита от мух; попивающих на веранде чай с вареньем; гуляющих по лесу и спрашивающих о том, съедобны ли здешние поганки.
Самуил Львович Шполянский, крупный, царственно спокойный пожилой господин, и граф Федор Никитич Порошин, маленький заика, легко приходящий в возбужденье, — оба они году в 1920-м были членами одного из героических краевых правительств, сформированных в провинциях России различными демократическими группами, чтобы противостоять большевистской диктатуре, — прохаживались по сосновой аллее, обсуждая тактику, которой им следует придерживаться на следующем объединенном заседании "Комитета свободной России" (основанного ими в Нью-Йорке) в отношении другой, более молодой антикоммунистической организации. Из беседки, полузадушенной белой акацией, доносились обрывки горячего спора между профессором Болотовым, который читал курс истории философии и профессором Шато, который читал курс философии истории. "Реальность есть длительность", — гремел один из голосов, голос Болотова. "А вот и нет! — восклицал другой. — Мыльный пузырь не менее реален, чем окаменелый зуб ископаемого".
Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов прошлого века, считались сравнительно молодыми. Большинство мужчин здесь перешагнуло за шестьдесят и плелось дальше. С другой стороны, некоторым из дам, как, например, княгине Порошиной и мадам Болотовой, еще не исполнилось пятидесяти, и, благодаря здоровой атмосфере Нового Света, они не только сохранили, но еще и усовершенствовали свою красоту. Некоторые из родителей привезли с собой своих отпрысков — здоровых, высоких, ленивых, избалованных американских детей студенческого возраста, не имевших ни чувства природы, ни знания русского языка, ни какого-либо интереса к подробностям происхождения или прошлого своих родителей. Казалось, они живут здесь в Соснах совершенно в ином физическом и умственном измерении, чем их родители: по временам они сходили со своего уровня на наш посредством неких межпространственных мерцающих сигналов; отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или совет, даваемый от души, а потом испарялись снова; держались всегда в отдалении (так, что у человека могло появиться ощущение, будто он породил на свет какую-то породу эльфов) и предпочитали любые продукты в банках или пакетиках из онкведской лавочки тем изумительным русским блюдам, что подавали у Кукольниковых в протяжение долгих и шумных ужинов на занавешенной сеткой террасе. Порошин с глубоким огорчением рассказывал о своих детях (студентах второго курса Игоре и Ольге): "Близнецы мои просто несносны. Когда я вижу их дома за завтраком или обедом и пытаюсь рассказать им какие-нибудь самые интересные, самые увлекательные вещи — скажем, о местном выборном самоуправлении на Крайнем Севере России в семнадцатом веке или, скажем, что-нибудь об истории первых медицинских школ в России — есть, между прочим, отличная монография Чистовича{72} об этом предмете, вышедшая в 1883 году, — они попросту уходят из-за стола и включают радио у себя в комнатах". В то лето, когда Пнин гостил в Соснах, близнецы тоже находились там. Но они оставались невидимы; и они, вероятно, совсем пропали бы от тоски в этом захолустье, если бы Ольгин поклонник, студент, фамилии которого, кажется, никто так и не узнал, не приехал однажды на уик-энд из Бостона в шикарной машине и если бы Игорь не нашел себе достойной подружки в болотовской Нине, красивой неряхе с египетскими глазами, смуглорукой и смуглоногой, посещавшей в Нью-Йорке какую-то балетную школу.
Хозяйство в Соснах вела Прасковья, крепкая шестидесятилетняя женщина из народа, чьей живости могла б позавидовать любая сорокалетняя. Радостно было видеть, как, одетая в мешковатые самодельные шорты и весьма солидную блузу с фальшивыми камешками, она стоит, уперев руки в бедра, на заднем крыльце и наблюдает за цыплятами. Она нянчила Александра и его брата в Харбине, когда они были маленькие, теперь же ей помогал по хозяйству ее муж, угрюмый и флегматичный старый казак, в жизни которого главными страстями были, во-первых, переплетное дело — он выучился переплетать самоучкой и испытывал потребность подвергать этой мучительной и весьма несовершенной операции любой старый каталог или бросовый журнал, попавший ему под руку; во-вторых, изготовление фруктовых наливок; и в-третьих, убийство мелких лесных тварей.
Из тех, кто гостил в Соснах в то лето, Пнин близко знал профессора Шато, который был другом его юности и с которым они вместе учились в Пражском университете в начале двадцатых годов, а также хорошо был знаком с Болотовыми, которых в последний раз видел в 1949 году, когда произносил в их честь приветственную речь на официальном обеде, устроенном в "Барбизон-Плаза" Ассоциацией русских эмигрантских ученых по поводу приезда Болотова из Франции. Лично мне никогда особенно не нравились ни сам Болотов, ни его философские труды, которые так странно сочетают в себе невразумительное с избитым; я допускаю, что человек этот воздвиг гору — но это гора банальностей; зато мне всегда нравилась Варвара, цветущая и веселая жена хилого философа. Именно здесь, в Соснах, в 1951 году, она впервые увидела природу Новой Англии. Здешние березы и черника навели ее на мысль, будто Онкведское озеро лежит не на параллели, скажем, Охридского озера на Балканах, что соответствовало бы истине, а на параллели Онежского озера в Северной России, где она проводила летние каникулы первые пятнадцать лет своей жизни, до того, как сбежать от большевиков в Западную Европу вместе со своей тетушкой Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. Вследствие этого заблуждения колибри и катальпа{73} в цвету представились ей противоестественным и экзотическим зрелищем. А огромные дикобразы, приходящие из леса поглодать аппетитные, с душком гнили старые стены, или изящные, жуткие маленькие скунсы, которые лакомились на заднем дворе молоком из кошачьей миски, показались ей более мифическими, чем картинки в бестиарии. Она была поражена и зачарована великим множеством растений и живых тварей, которых она не могла опознать, приняла желтых американских славок{74} за одичавших канареек, а на день рожденья Сьюзен, задыхаясь от восторга, горделиво принесла для украшения праздничного стола целую кипу живописных листьев ядовитого американского плюща, которые она прижимала к своей розовой веснушчатой груди.