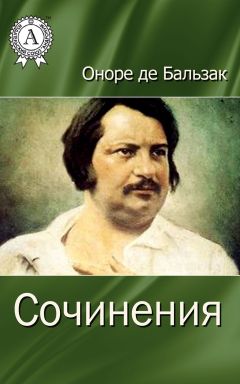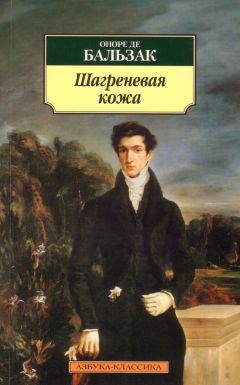Оноре Бальзак - Отец Горио
— Что же мне нужно сделать? — жадно спросил Растиньяк, прерывая Вотрена.
— Почти ничего, — ответил тот, радостно встрепенувшись, как рыбак, почувствовавший, что рыба клюнула. — Слушайте же. Сердце несчастной, обездоленной девушки с величайшей жадностью впитывает любовь, как губка влагу, оно расширяется, едва на него упадет хоть капля чувства. Ухаживать за молодой особой, которая живет в полном одиночестве, мучимая тоской, в бедности, не подозревая, что ее ждет богатство! — да это значит иметь все козыри на руках, знать номера лотереи, играть та) бирже, будучи в курсе всех новостей. Брак, воздвигнутый на таких условиях, будет незыблем. Если этой, девушке достанутся миллионы, она бросит их к вашим ногам, точно это простые камушки. «Возьми, мой возлюбленный! Возьми, Адольф! Возьми, Альфред! Возьми, Эжен!» — скажет она, если Адольф, Альфред или Эжен догадались принести для нее жертвы. Я подразумеваю под жертвами продажу старого фрака, чтобы пойти вместе в ресторан «Кадран-Бле» покушать пирожков с грибами, а оттуда вечером махнуть в «Амбигю-Комик»; жертва — это заклад часов в ломбарде, чтобы подарить ей шаль. Не буду говорить вам ни о любовных цидулках, ни о прочем вздоре, которому придают такое значение женщины; например, разлучившись с женщиной, нужно брызнуть водой на почтовую бумагу, как будто письмо смочено слезами; по всем признакам, вы сами знаете в совершенстве любовное наречье. Видите ли, Париж все равно, что громадный лее Нового Света, где копошатся двадцать различных диких племен — илинойцы, гуроны, живущие добычей от разных охот в недрах общества, а вы — охотник за миллионами. Чтобы добыть их, вы расставляете канканы, силки, подманиваете с помощью дудки. Есть несколько способов охоты. Одни охотятся за приданым, другие подкарауливают аукционы, третьи улавливают души, четвертые продают своих клиентов, связав их по рукам и ногам. Того, кто возвращается с полным ягдташем, приветствуют, чествуют, принимают в порядочном обществе. Воздадим должное этой гостеприимной земле, вы имеете дело с самым снисходительным городом в мире. В то время как гордая аристократия всех столиц Европы отказывается пускать в свою среду бесчестного миллионера, Париж открывает ему объятия, бежит на его рауты, ест его обеды и чокается с его бесчестьем.
— Но где найти такую девушку? — сказал Эжен.
— Она перед вами, она ваша!
— Мадемуазель Викторина?
— Она самая.
— Как же это?
— Будущая баронесса де Растиньяк уже любит вас!
— У нее нет ни гроша, — возразил озадаченный Эжен.
— В том-то и закавыка, Еще два слова, и все разъяснится. Папаша Тайфер — старый мошенник; по слухам, во время революции он убил своего приятеля. Это один из тех молодцов, которые не считаются ни с чьим мнением. Он — банкир, главный пайщик конторы Фредерик Тайфер и Ко. У него единственный сын, которому он собирается оставить свое состояние, обойдя Викторину. Что до меня, я не люблю подобных несправедливостей. Я, как Дон-Кихот, люблю брать под свою защиту слабого против сильного. Если бы богу угодно было отнять у Тайфера сына, он вернул бы к себе дочь, он захотел бы иметь какого-нибудь наследника, эта глупость — в природе человека, а у него не может быть больше детей, мне это известно. Викторина кротка и мила, она живо скрутит отца, он завертится у нее волчком, кнутом явится здесь чувство. Ваша любовь так полонит ее сердце, что она не забудет вас: вы женитесь на ней. А я беру на себя роль провидения, исполнителя воли божией. У меня есть друг, который мне многим обязан, полковник луарской армии, только что назначенный в королевскую гвардию. Он слушается моих советов и стал крайним роялистом: он не из тех болванов, которые остаются верны своим убеждениям. Хочу дать вам еще один совет, дружок: плюйте и на свои убеждения, и на свои слова. Когда потребуется, продавайте их. Кто хвастается неизменностью убеждений, тот берет на себя обязательство всегда идти прямым путем, тот глупец, верящий в свою непогрешимость. Принципов нет, есть события; законов нет, есть обстоятельства: тот, кто выше толпы, приноравливается к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими. Если бы существовали неизменные принципы и законы, нации не меняли бы их, как мы меняем сорочки. Отдельный человек не может быть мудрее целой нации. Человек, оказавший Франции меньше всего услуг, превращен в кумира, боготворимого по той причине, что он все видел в красном свете, а он годен лишь на то, чтобы его водрузили среди машин в музее с ярлычком — Лафайет; в то же время всякий бросает камень в человека, который воспрепятствовал разделу Франции на Венском конгрессе и достаточно презирает человечество, чтобы выхаркнуть тому в лицо столько клятв, сколько требуется: на этого человека следовало бы возложить корону, а его закидывают грязью. О, я знаю толк в делах! Я знаю подноготную многих людей. Достаточно! Я согласен иметь непоколебимые убеждения, когда встречу хотя бы трех человек, между которыми не было бы разногласицы относительно любого принципа; мне придется ждать долгонько. В судах не найдешь и трех судей, которые сходились бы в толковании одной и той же статьи закона. Возвращаюсь к своему приятелю. Скажи я ему — и он Христа распнет вторично. По одному слову дядюшки Вотрена он затеет ссору с этим бездельником, который и ста су не дает бедной сестре, и…
Тут Вотрен поднялся, стал в позицию и сделал выпад, подражая учителю фехтования.
— Ив тартарары! — прибавил он.
— Какой ужас! — сказал Эжен. — Вы изволите шутить, господин Вотрен?
— Та-та-та, успокойтесь. Не притворяйтесь младенцем; впрочем, горячитесь, негодуйте, коли это вас забавляет! Скажите, что я негодяй, преступник, мошенник, разбойник, но не называйте меня ни мелким плутом, ни шпионом. Ну, говорите же, давайте по мне залп! Я вам прощаю — это так естественно в ваши годы. И я был таким когда-то. Но только поразмыслите хорошенько. Когда-нибудь вы поступите еще хуже. Вы будете ухаживать за какой-нибудь хорошенькой женщиной и брать у нее деньги. Да вы уже подумываете об этом, — продолжал Вотрен. — Разве вы добьетесь успеха, если не будете чеканить звонкой монеты из своей любви? Добродетель, дорогой мой студент, не делится на кусочки: или она есть, или ее нет. Нас призывают каяться в грехах. Тоже недурная система. Совершай преступления, но кайся, и будешь прощен. Соблазнить женщину, чтобы подняться по общественной лестнице ступенькой выше, посеять раздор в семье, наделать всевозможных пакостей под сурдинку или иным манером, ради удовольствия или личной выгоды, — что же, по-вашему, все это — проявления веры, надежды и милосердия? Почему светского щеголя, отнявшего за одну ночь половину состояния у ребенка, приговаривают всего лишь к двум месяцам тюрьмы, а беднягу, укравшего ассигнацию в тысячу франков при отягчающих обстоятельствах, отправляют на каторгу? Вот ваши законы. В них нет ни одной статьи, которая не приводила бы к абсурду. Господин в перчатках, но со лживыми речами совершал убийства без кровопролития, кровь ему дарили; убийца взломал дверь отмычкой; таковы два ночных происшествия. Между тем, что я вам предлагаю, и тем, что вы сделаете со временем, только та разница, что у вас руки не будут в крови. Вы верите, что в мире есть что-то незыблемое! Презирайте людей и высматривайте в сетях свода законов такие петельки, через которые можно пролезть. Тайна больших, неведомо откуда взявшихся состояний — в преступлении, забытом потому, что оно было чисто сделано.
— Молчите. Я не хочу больше вас слушать, вы способны заставить меня усомниться в самом себе. Сейчас я не хочу знать ничего, кроме голоса чувства.
— Как вам угодно, дитя мое. Я был о вас более высокого мнения. Больше я вам ничего не скажу. Еще одно слово, впрочем, — Вотрен пристально посмотрел на студента. — Вы знаете мою тайну, — сказал он.
— Молодой человек, отказавшийся от ваших услуг, сумеет забыть ее.
— Хорошо сказано; вы меня радуете. Другой, видите ли, был бы менее щепетильным. Не забывайте того, что я хочу сделать для вас. Даю вам две недели сроку. Соглашайтесь или отказывайтесь, воля ваша.
«Какая железная логика у этого человека, — подумал Растиньяк, глядя на Вотрена, спокойно удалявшегося с тростью под мышкой. — Он сказал мне без обиняков то, что госпожа де Босеан говорила, соблюдая правила приличия. Он раздирал мне сердце стальными когтями. Почему я стремлюсь бывать у госпожи де Нусинген? Он разгадал мои намерения, как только они у меня зародились. Этот разбойник в двух словах сказал мне о добродетели больше, чем все люди и книги. Если добродетель не терпит сделок с совестью, значит, я обокрал сестер?» — подумал Эжен, бросая мешок на стол.
Он сел и погрузился в мучительное раздумье.
«Быть верным добродетели — высокое мученичество! Все верят в добродетель, а кто добродетелен? Народы делают из свободы кумира, а где на земле свободный народ? Моя молодость пока еще похожа на безоблачное голубое небо; желать быть знатным или богатым не значит ли решиться лгать, гнуть спину, пресмыкаться, принимать гордый вид, льстить, скрывать? Не значит ли это добровольно сделаться лакеем тех, которые лгали, гнули спину, пресмыкались? Прежде чем стать их сообщником, надо быть их слугой. Так нет же, нет. Я хочу трудиться благородно, свято; я хочу трудиться день и ночь, хочу быть обязанным своим благополучием только собственному труду. Такое благополучие достигается очень медленно, но зато каждый день голова моя будет спокойно склоняться на подушку и ее не будут тревожить дурные мысли. Что может быть прекраснее, чем созерцать свою жизнь и находить, что она чиста, как лилия? Я и жизнь — словно жених и невеста. Вотрен показал мне, что происходит после десяти лет супружества. Черт возьми! У меня голова идет кругом. Не хочу ни о чем думать, сердце — мой верный вожатый».