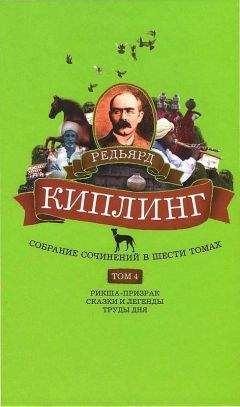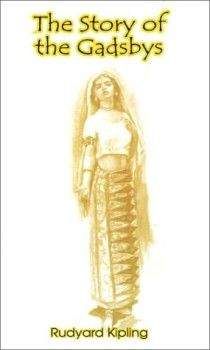Редьярд Киплинг - Труды дня
— Ну, конечно, вид у вас неважный, но, насколько я понимаю, они будут рады видеть вас во всяком состоянии. Я тут присмотрю за вашей работой денька два, если хотите, а тем временем вы наберётесь сил, и Фез Улла откормит вас.
Скотт начал ходить, хотя и шатаясь, к тому времени как Хаукинс окончил свой осмотр. Он весь вспыхнул, когда Джим сказал, что его работа в округе была «недурна», и затем прибавил, что во время голода он считал Скотта своей правой рукой и считает своим долгом официально доложить об этом по начальству.
Итак, они вернулись по железной дороге в старый лагерь, но вблизи него не было толпы, костры во рвах потухли и почернели, а бараки для голодающих были почти пусты.
— Видите! — сказал Джим. — Дела нам осталось немного. Поезжайте-ка лучше к моей жене. Там для вас устроили палатку. Обед в семь часов. Тогда я увижусь с вами.
Скотт поехал шагом, Фез Улла шёл у стремени. Подъехав к палатке, Скотт увидел Вилльям в амазонке из бумажной материи коричневого цвета. Она сидела у входа в палатку-столовую, опустив руки на колени, бледная, как смерть, похудевшая, истощённая. Даже волосы потеряли свой обычный блеск. Миссис Джим не было видно. Вилльям могла только сказать:
— Какой у вас плохой вид!
— У меня был приступ лихорадки. У вас самой вид не очень хороший.
— О, я достаточно здорова. Наша работа подходит к концу, знаете?
Скотт кивнул головой.
— Мы все скоро вернёмся назад. Хаукинс говорил мне.
— До Рождества, говорит миссис Джим. Рады вы будете вернуться? Я уже чувствую запах лесов, — Вилльям втянула воздух. — Мы успеем к рождественским празднествам. Я думаю, что даже пенджабское правительство не будет настолько низко, что переведёт Джека на новое место до Нового года.
— Кажется, как будто это было сотни лет тому назад — Пенджаб и все остальное, не правда ли? Рады вы, что приехали?
— Теперь, когда все прошло, да. Здесь было ужасно. Вы знаете, мы должны были сидеть смирно и ничего не делать, а сэр Джим так часто уезжал.
— Ну уж и ничего не делать… Ну а как у вас шло доение коз?..
— Кое-как справлялась — после того, как вы научили меня.
Они примолкли, прислушиваясь к шуму шагов. Но миссис Джим все не было.
— Это напомнило мне, что я должна вам пятьдесят рупий за сгущённое молоко. Я думала, что вы заедете сюда, когда вас перевели в округ Канда, и я смогу тогда заплатить вам, но вы не заехали.
— Я проезжал в пяти милях от лагеря. Видите, это было во время перехода, и повозки ломались каждую минуту, мне удалось поправить их только к десяти часам вечера. Но мне страшно хотелось заехать. Вы знали, что хотелось, не правда ли?
— Я думаю, что знала, — сказала Вилльям, глядя на него. Теперь она уже не была бледна.
— Вы поняли?
— Почему вы не заехали? Конечно, поняла.
— Почему?
— Потому, что не могли. Я знала это.
— Было бы вам приятно?..
— Если бы вы приехали?.. Ведь я знала, что вы не приедете… Все же, если бы приехали, я была бы очень рада. Вы знаете это.
— Слава Богу, что я не приехал! Но как мне хотелось! Знаете, я не решился ехать впереди повозок, потому что боялся, что заставлю их свернуть как-нибудь в эту сторону.
— Я знала, что вы не сделаете этого, — с довольным видом сказала Вилльям. — Вот ваши пятьдесят рупий.
Скотт наклонился и поцеловал руку, державшую грязные бумажки. Другая рука неловко, но очень нежно погладила его по голове.
— И вы знали, не правда ли? — сказала Вилльям изменившимся голосом.
— Нет, клянусь честью, не знал. Я… у меня не хватало смелости ожидать чего-либо подобного, за исключением… Скажите, вы ездили куда-нибудь в тот день, когда я проезжал мимо по дороге в Канду?
Вилльям кивнула головой и улыбнулась, словно ангел, которого застали за добрым делом.
— Так, значит, это я видел край вашей амазонки в…
— В пальмовой роще на южной дороге. Я увидела ваш шлем, когда вы выходили из пристройки у храма, — я видела ровно столько, чтобы убедиться, что у вас все благополучно. Приятно вам это?
На этот раз Скотт не поцеловал ей руку, потому что они скрылись во мраке палатки-столовой и потому что Вилльям, колена которой дрожали так, что она должна была сесть на ближайший стул, опустила голову на руки и заплакала обильными, счастливыми слезами; и когда Скотт сообразил, что следовало бы утешить её, она побежала в свою палатку, Скотт же вышел на воздух с широкой, идиотской улыбкой на устах. Но когда Фез Улла принёс ему питьё, оказалось, что Скотту необходимо поддерживать одну руку другой, не то прекрасный напиток — виски с содовой — расплескался бы. Бывают лихорадки разного рода.
Но хуже — и притом гораздо хуже — был натянутый разговор, когда они избегали смотреть друг на друга, пока слуги не удалились, и хуже всего, когда миссис Джим, еле удерживавшаяся от слез с той минуты, как подали суп, поцеловала Скотта и Вилльям, и они выпили целую бутылку шампанского, тёплого, потому что не было льда. Потом Скотт и Вилльям сидели при свете звёзд на воздухе до тех пор, пока миссис Джим не загнала их в палатку, боясь нового приступа лихорадки.
По поводу этого и многого другого Вилльям сказала:
— Быть помолвленной отвратительно, потому что это какое-то неопределённое положение. Мы должны быть благодарны, что у нас столько дел.
— Столько дел! — сказал Джим, когда эти слова были переданы ему. — Оба они теперь никуда не годятся. Я не могу добиться пяти часов работы от Скотта. Половину времени он витает в облаках.
— Но зато так отрадно смотреть на них, Джимми. Сердце у меня разобьётся, когда они уедут. Не можешь ли ты сделать что-нибудь для них?
— Я написал донесение так, что должно получиться впечатление, будто он лично вёл все это дело. Но он желает только получить место по проведению канала Луни, и Вилльям также стоит на этом. Слышала ты когда-нибудь, как они говорят о запруде, об излишке воды? Должно быть, такова их манера ухаживать.
Миссис Джим нежно улыбнулась.
— Ну, это они только так, между прочим!.. Да благослови их Господь.
Итак, любовь царствовала невозбранно в лагере при ярком свете дня в то время, как люди завершали борьбу с голодом в «восьми округах».
Утро принесло пронизывающий холод северного декабря, облака дыма костров, тёмный серо-голубой цвет тамариндовых деревьев, сооружения над разрушенными могилами и все запахи белых северных равнин. Поезд бежал по длинному Сеглейскому мосту, тянувшемуся на протяжении мили. Вилльям, закутанная в «поштин» — куртку из овчины, расшитую шелками и обшитую грубой мерлушкой, — смотрела на все влажными глазами и с трепетавшими от восторга ноздрями. Юг с его пагодами и пальмовыми деревьями, индусский юг остался позади. Вот страна, которую она знает и любит. Перед ней была хорошо знакомая ей жизнь среди людей её круга и понятий.
Почти на каждой станции они забирали этих людей — мужчин и женщин, едущих на Рождество с ракетками для тенниса, связками шестов для игры в поло, с милыми, поломанными лопатками для крокета, фокстерьерами и сёдлами. Большая часть из них была в таких же куртках, как у Вилльям, потому что с северным холодом так же нельзя шутить, как с северной жарой. И Вилльям была среди них и одна из них. Запустив руки глубоко в карманы, подняв воротник выше ушей, она расхаживала по платформе, притоптывая ногами, чтобы согреться, и переходила из одного вагона в другой, чтобы навестить знакомых. Везде её поздравляли. Скотт сидел в конце поезда с холостяками, которые немилосердно дразнили его тем, что он кормил грудных детей и доил коз, но по временам он подходил к окну вагона, где сидела Вилльям, и шептал:
— Хорошо, не правда ли?
И Вилльям отвечала, видимо, в полном восторге:
— Правда, хорошо.
— Приятно было слышать благозвучные имена родных городов: Умбала, Лудиана, Филлоур, Джуллундур звучали в её ушах, словно колокола, которые должны возвестить о её свободе, и Вилльям чувствовала глубокую, истинную жалость ко всем чужим и посторонним — гостям, путешественникам и только что принятым на службу.
Возвращение было чудесное, и, когда холостяки давали рождественский бал, Вилльям была неофициально, так сказать, главной и почётной гостьей старшин клуба, которые могли устроить все чрезвычайно приятно для своих друзей. Она танцевала со Скоттом почти все танцы, а остальное время сидела в большой, тёмной галерее, выходившей в великолепный зал, где блестели мундиры, звенели шпоры и развевались новые женские платья и где четыреста танцоров кружились так, что флаги, которыми были задрапированы колонны, стали развеваться, уносимые вихрем.
Около полуночи с полдюжины не любивших танцы пришли из клуба, чтобы сыграть серенаду, — то был сюрприз, приготовленный старшинами. Прежде чем присутствующие могли сообразить что-либо, оркестр умолк и невидимые голоса запели «Добрый король Венцеслав».
Вилльям, сидя на галерее, подпевала и отбивала такт ногой: