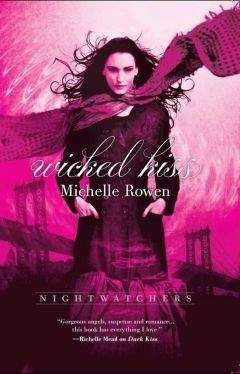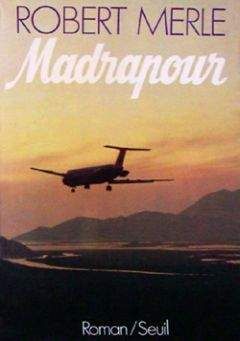Фёдор Степун - Николай Переслегин
Не знаю, не хочу сейчас думать, быть может и есть сферы жизни, в которых моя артистическая этика не вполне применима, где необходимы штампы мертвого морализма — законы и правила, но на вершинах духа, и прежде всего на вершинах искусства, им не место, Наташа, не место потому и в любви. Ибо что же любовь, как
159
не религиозная вершина глубочайшего искусства — жизни. Полюбить друг друга, разве это не значит избавить друг друга от всего случайного и бесформенного, пластически завершиться друг в друге, обрести строгий ритуал жизни, отчеканить и вознести диалог своих чувств, стать друг другу материалом и формою, лицом и судьбой, стать друг другу залогом бессмертия!
Если мы так полюбили, то наша любовь гораздо больше, чем только н а ш а любовь; она тот образ Божьего совершенства, что мы с Тобою были призваны друг через друга осуществить для мира и утвердить над миром. Наша любовь — наш вклад в дарохранилище мира. И этим вкладом Алексей обязан быть счастлив, как обязан быть счастлив всякий человек тем, что где-то и кем-то рождается в мире некий образ абсолютного совершенства, как обязан каждый человек и страдать от того, что где-то и кем-то такой образ погашается в мире.
Если у Алексея не хватает силы исполнить этот свой долг и он вместо того, чтобы испытывать сейчас хотя бы только и радость, испытывает о д н о только страдание, то это понятная человеческая слабость. Жалеть его и душою болеть за него Тебе, конечно, не только естественно, но даже и обязательно; думать же, что Ты должна была, изменив долгу Твоего дара и дару Твоей любви, остаться с ним, не только не естествен-
160
но, но — прости меня, родная, — преступно и грешно..
Писать больше не могу; я сегодня дежурный по дивизиону и мне надо сменять караул. Люди уже выстроены...
С болью отрываюсь от неоконченного письма. С грустью возвращаю Тебя Кавказу: Твоим буйволам, Твоим ночам и Твоему балкону.
Люблю Тебя и жду Тебя.
Твой Николай.
Сельцы, 21-го июля 1911 г.
Дорогая Ты моя, ведь знаю же я, что раньше чем дней через восемь-десять после первого письма мне второго ждать никак не приходится, а вот ноги сами носят меня каждый день перед обедом в канцелярию, где в это время разбирается почта, чтобы недоверчивые руки могли сами перебрать все конверты и глаза сами .убедиться, что письма от Тебя еще нет.
С этим горестным убеждением в душе я вот уже третий день спешу как можно скорее отобедать, дабы между обедом и вечерними занятиями снова перечесть Твое первое, такое длинное для Тебя письмо.
Хотя я отвечал Тебе на него в день моего дежурства, т. е. в день в сущности свободный от всяких занятий, я все же смог отозваться только на Твои сомнения, касающиеся Алеши, на все
161
остальное все-таки не хватило времени. Задерживать же письмо не хотелось: слишком радостно волновалось в душе представление, как Ты получаешь, распечатываешь и читаешь мое письмо.
Какая Ты милая и какая Ты смешная, Наташа. Пишешь, да еще совершенно серьезно, что не понимаешь, как я мог полюбить Тебя, такую обыкновенную и малоинтересную, зная так много особенных, умных, красивых и увлекательных женщин.
Что мне на это отвечать Тебе, родная? Будь я француз, или еще лучше, итальянец, я начал бы, конечно, немедленно клясться, что Ты самая умная, самая красивая, самая интересная и самая увлекательная женщина, которая была когда-либо рождена смертною матерью, и что я Тебя люблю за эту Твою превосходную степень. Но, к несчастью, я совсем не француз и совсем не итальянец. К вечно мучающей себя русской крови во мне примешаны только еще какие-то капли тяжелодумной германской. К тому же, дед мой ученик Гегеля, я сам недавно из Гейдельберга. Мудрено ли, после всего сказанного, что у меня нет другого исхода, как, попросив у Тебя извинения за нелюбезность, попытаться серьезно ответить на очаровательное недоумение Твое.
С тем, что Ты совсем обыкновенная женщина, я согласиться никак не могу, но зато охотно соглашаюсь со вторым Твоим утверждением. Причем, однако, прошу мне поверить, что если бы Ты принадлежала к тем женщинам, кото-
162
рых мы, мужчины, ощущаем интересными, Ты была бы гораздо более обыкновенна, чем Ты есть на самом деле. Поверь мне, Наташа, интересных женщин очень много, а вот таких, как Ты — нет.
Интересных, и даже очень интересных я знал не одну: они все разные, но все же отрава в них всегда одна и та же. Самое первое впечатление от них — всегда до боли интенсивно, но самое последнее ощущение их — всегда смутно как сон. Это призрачные, неуловимые женщины с каким-то блуждающим душевным центром и тающими контурами образа. Они сами в себе раздвоены и потому в них все противоречиво: они живут только любовью, но их любовь всегда в ссоре с их жизнью; каждую минуту своего счастья они неизбежно заостряют горечью, но зато и к страданьям своим напряженно прислушиваются и слышат в них не только боль, но и блаженство: какую-то сладостную, далекую музыку. Пока они не влекут к себе, они вызывают нежность и даже жалость: есть в них какая-то обреченность, какая-то предопределенность к саморазрушению; но как только дрогнуло сердце и отдалось мареву их обаяния, начинается глухая борьба. В свою страсть эти странные женщины всегда вносят поединок, в свою любовь — мщенье и ненависть. Их глаза обыкновенно страстнее и гениальнее их губ; не потому ли их мечты всегда невоплотимы, предчувствия настороженны, чувства тревожны и руки нервны. Они поч-
163
ти всегда женщины с очень широкими духовными интересами, с острым, но безответственным вкусом и с большим артистическим темпераментом. Их письма — всегда эпистолярная литература. Изредка они встречаются среди больших, настоящих актрис. В них много блеска, они декоративны, но в них нет тишины и исполнения. Они пробуждают страшную тоску по любви, но любви сами не знают и любви никому не несут. Для большинства средних мужчин они не соблазнительны: слишком сложны и непосильны. Вокруг них нет потому той напряженно любовной атмосферы, которая окружает «так называемых» интересных женщин: «столичных львиц», провинциальных «милых барынек» и духоблудствующих девиц.
Но ничего не даря всем, они и одному никогда не дают всего. Сквозь их сердца всегда протекают несколько сложных чувств. Вблизи них всегда страдает несколько утонченных, артистичных, но безвольных, женственных мужчин. Мне кажется, что Екатерина Львовна, о которой писал Тебе из Флоренции, была в свое время такою моей интересною женщиной. Быть может, что-то от неё скажется и в Марине, когда её жизнь уйдет из под знака смерти и встанет под знак любви.
Надеюсь, что вывод излишен. Я полюбил Тебя, а не интересную женщину потому, что интересную невозможно любить. Интересная женщи-
164
на — переживание, но не жизнь; событие, но не бытие. Любовь же целостная, единая жизнь, навек отданная подлинному, абсолютному бытию.
Женщина исполненная любви не интересна потому, что она гораздо больше чем интересна: она значительна, существенна, священна. Не умаляя называемого, интересным можно называть только предпоследнее, временное, частичное. Все же последнее, вечное и целостное определением этим неизбежно принижается и обесценивается.
Для проблемы не позор быть интересной, но решение её должно быть истинным. Мечтать об интересной жизни естественно, но об интересной смерти — кощунственно. Интересное солнце — бессмыслица, но интересное освещение — вполне понятная мысль. Так и в любви, Наташа. С интересною женщиною, не умаляя любви и себя, можно иметь роман. Роман—категория эстетическая. Но называть роман любовью — нельзя, не умаляя любви и себя: любовь категория религиозная. И как роман не похож на любовь, так и интересная женщина не похожа на женщину, которая подлинно любит и подлинно любима.
Такая женщина внутренне сосредоточена, собрана и целостна; внешне спокойна, тиха и ровна. Красива ли она, или не красива, она всегда прекрасна, но никогда не прелестна, так как успокоенная красота её никому не льстит и никого не прельщает. Таинственная, и как бы во внутрь отозванная, она подобна тем, торжественно освещенным, но ревниво занавешенным окнам, за
165
которыми прохожий угадывает певучий, красочный, праздничный мир, но в которых видит только одни тени.
В отличие от всех интересных, острых, отравляющих, но в любви все же без благодатных женщин, женщина, действительно исполненная любви, никогда не создает вокруг себя никакой усложненной, эротической атмосферы. Её любовь — круг бесконечного радиуса, вокруг которого немыслим потому никакой окружающий мир. Женщины, в особенности интересные, ее часто ненавидят, потому что бессознательно завидуют ей. Мужчины в нее влюбляются редко, потому что влюбчивость большинства из них корыстна и инстинктивно устремлена по линиям наименьшего сопротивления. Зато ее всегда страстно любят дети и ею часто любуются бескорыстные взоры художников и стариков.