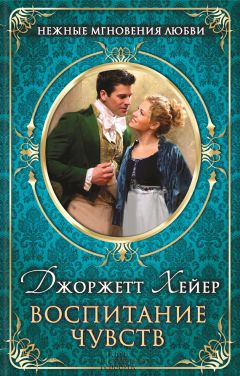Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств»
При всем том он страдал, краснел от стыда и унижения, пытаясь снискать благосклонность этого человека, он, такой гордый, такой благородный; тем не менее каждое утро ноги сами несли его к гостинице «Золотой лев»; обманутое тщеславие порождало иллюзии, ему казалось даже, что он почти любит Бернарди, его влекла к директору труппы едва ли не взаправдашняя симпатия. Впрочем, всем великим людям поначалу мешали сотни каких-то препятствий, их талант подвергали сомнению, их самих — оскорблениям, им чинили множество мелких пакостей, разве не так? И самый гений их не был ли отчасти вредоносен для них самих? Он утешал себя подобными рассуждениями, и, вполне вероятно, это средство помогало.
В городе знали, что он якшается с комедиантами и не прочь пристроить в театр что-то свое, это стало событием и возбуждало разные толки, люди, видевшие его каждодневно, не могли прийти в себя от удивления; почти все его самонадеянность порицали, а старые знакомцы по коллежу уверяли, что он будет освистан. Только среди очень молодых людей нашлись те, кто одобрил его поступок и хотел бы оказаться на его месте, чтобы бесплатно ходить в театр и быть принятым за кулисами. Его мать опасалась за него, страшась, как бы он не попал в дурное общество, а отец предостерег от легкомысленных увлечений и призывал не оставлять без внимания кошелек в кармане. По воскресеньям во время больших семейных обедов, тех самых старых добрых буржуазных обедов, каковых не дано избегнуть никому из рожденных под нашими небесами, как не убежишь от воинской службы и налогов, его осаждали почтенные мужи, люди на шестом десятке, устроенные в жизни, женатые, располагающие собственностью и довольные правительством, — все они, как на подбор, тонко подшучивали над его литераторскими упованиями, отпускали колкие замечания и давали полезные советы: «Что это вам сулит?» — «Поверьте мне, для вас предпочтительнее делать то же, что и все». — «Как подобная идея взбрела вам в голову?» — «Это вас заведет знаете куда?» — «Безумие, безумие!» — «Такое проходит, уверяю вас». Затем наступал черед анекдотов, приводились примеры, резоны, и все неумолимо сходились на том, что «наш юный друг заблуждается».
Однако сравнение их глупостей со своими убеждениями доказывало ему, насколько он силен, и лишь укрепляло в этой вере. Поплотнее усевшись на свое высокомерие, как на трон, он лишь утвердился в собственной невозмутимости.
Неподалеку от театра была тополиная аллея, проходившая по берегу реки, именно туда местные дамы отправлялись летними вечерами подышать свежим воздухом, пожилые — со своими моськами, те, что помоложе, — с мужьями и детьми. Хотя теплые деньки еще не наступили, мадемуазель Люсинда каждый вечер прогуливалась там в сопровождении мадам Артемизии, которая казалась ее матерью, ибо следовала за нею неотступно, словно тень, и была с нею неразлучна, точно погонщик со своим слоном.
Однажды, проходя мимо, Жюль их заметил, он поздоровался и пошел своей дорогой, не оглядываясь, как делают все, кому случается повстречаться на улице. Назавтра в то же время он оказался там снова, они были на прежнем месте, сидели на той же скамье; он шел быстрее, чем накануне, но мадам Артемизия, здороваясь, назвала его по имени и пригласила сесть рядом с нею.
Женщина она была ласковая, медоточивая, исполненная предупредительности к молодым людям и охотно говорившая им в похвалу такое, что заставляло их заливаться румянцем; она долго расхваливала его драму, сулила непременный успех, обсуждала актеров, что будут в ней заняты, и тот эффект, что она произведет на публику; расстались они весьма довольные, взяв друг у друга обещание встретиться здесь же на другой день, и так продолжалось все следующие за этим вечера. Каждый раз, приближаясь к аллее, Жюль замечал обеих женщин, они прогуливались по берегу реки или сидели на скамье, глядя, как течет вода.
Мадемуазель Люсинда говорила мало, обычно она смотрела на небо и спрашивала у Жюля названия звезд, но чаще, опустив голову, поигрывала ножкой в траве и только улыбалась тому, что говорилось рядом. Разумеется, именно ради нее, чтобы любоваться ею одной, ее глазами, блуждающими в небесах, впивать счастье ее присутствия, он выносил нескончаемую болтовню ее спутницы, праздное любопытство расспросов и преувеличенные комплименты.
Бывает, что при чтении любимой книги, когда вы всякое слово пробуете на вкус, дегустируете каждую фразу, словно откусываете от сочного плода и долго держите во рту лакомый кусочек, проникаясь мыслью автора и обозревая приоткрытые ею горизонты, вас вдруг заставляет болезненно скривиться внезапно замяукавшая под окном шарманка или скрип распахнутой входной двери, пропускающей в дом незваного визитера, так вот и Жюль ежедневно подвергал себя подобному испытанию, тем более жестокому, что его нельзя было не предвидеть, — ради того, чтобы читать на лице девушки неясную благодарственную песнь, написанную неизвестно кем неведомо где, и досыта напитывать этой поэзией свое воображение, угадывая ее знаки даже в едва заметном подрагивании ноздрей или в складках одежды, молодой человек сделался другом, да что там — без пяти минут возлюбленным дуэньи с испорченными зубами и скрипучим голосом, поначалу причинявшим ему несказанные муки.
Действительно, Люсинда приворожила юношу, несмотря на его сопротивление; в этой женственной красоте таилось нечто влекуще-призывное, нельзя было ни представить черт лица нежнее, ни вообразить более простой манеры держать себя, и при этом весь ее облик приводил в смятение, в душе рождалась неодолимая тяга обожать ее, умереть за нее, но подчас сердце бунтовало и проникалось к ней беспричинной ненавистью. Ее длинные светло-каштановые волосы, в которых солнечный свет отыскивал золотистые искорки, струились полноводной шелковистой рекой, так что от их обилия и тяжести голова, казалось, изнемогала; присобранные на затылке и перехваченные витым шнурком, они ниспадали почти до плеч, а спереди пряди были поделены на длинные подвижные спиральки, мягко спускавшиеся у щек и колеблемые любым ветерком, а когда она шла или поднималась со скамьи, подвитые прядки легонько касались лица. С самого рождения, как чудилось Жюлю, ее позам была присуща кроткая и изысканная распахнутость чувству, а поступи — легкость, словно у птицы, что вот-вот взлетит. На тонких, неброско очерченных губах трепетала ироническая и не всегда добродушная усмешка, а в разрезе чуть приподнятых к вискам, влажных и постоянно ускользающих под веки глаз таилась, множа путы томительной притягательности, какая-то безмятежная и почти по-детски наивная веселость; она навевала смутные воспоминания о племени дочерей Евы, посланных в мир на погибель сильному полу, о тех удивительных чаровницах, что проводили время в играх со змеями, позволяя тем многократно обвивать свое тело и усмиряя их потом ласковыми речами, о наложницах древних деспотов, что навлекали на головы подданных неисчислимые бедствия, коварных, но неизменно любимых созданиях, способных предать, целуя, и продать за драгоценную безделушку или, хохоча и резвясь, поднести на пиру яду, сидя на коленях своей жертвы.
Может, поэтому-то Жюль насилу осмеливался заговорить с ней, и страх оказывался так силен, что сама возможность остаться с нею наедине принудила бы его к бегству? Должно быть, оттого-то, едва завидев ее издали, он опускал глаза? Уважение? Тяга к созерцательности? Ужас? Да, говоря по существу, любил ли он ее вообще?
Позже он и вправду сам в этом сомневался, когда, проведя порядочно времени среди вымышленной идеальной жизни, меж небесных любовей и неземных чувств, пришел к отрицанию красоты на том основании, что слишком ее любил, и насмехался надо всеми страстями, поскольку ни одна из них уже не составляла для него тайны; но в те времена он еще видел себя в средоточии царства иллюзий, принимал все это на веру и не рассматривал свою любовь с точки зрения бесконечности. Сия пагубная мания отвращает от всего великого и с молодых ногтей превращает вас в старика! Так почему же не предположить, что и он был влюблен? Каждый, кто имеет сердце в груди, начинает жизнь с серьезной любви — он, как и все, пошел тогда этим путем.
К тому ж в то время, будучи доверчивым ребенком, еще не вкусившим от плода сомнения, он любил любить, тяготел к чудным грезам, легко воодушевлялся, восхищался всем, перед чем принято трепетать, и, более того, принадлежал к числу тех простодушных и склонных к нежности современников, которые не осмелятся ни разбудить спящего подростка, ни раздавить каблуком цветок, кто ласкает животных, любуется полетом ласточек и часами глядит на луну. Сердце такой нервической и женственной натуры готово разорваться от любой малости, цепляется за все колючки, побуждает то к безосновательному веселью, то к беспричинной грусти, а чаще — к мечтаниям по любому поводу; он особо негодовал против всяческих проявлений суетности и оставался фанатически предан некоторым словам; страстно желал осуществления целей незавидных, горевал о пустяковых утратах и с новым жаром принимался обожать не стоящие внимания мелочи. Сила душевной расточительности, коей наделили его небеса, умножала напряжение радости или боли, он приходил в экстаз, марая бумагу, обретал красноречие, начав говорить, собственная горячность трогала его за живое, и он одушевлялся от сознания собственной доброты. Когда он предавался творчеству и воспарял в области возвышенного, то делом первостепенной важности почитал риторику: гиперболы выносили его сравнения за пределы умопостигаемого, и он охотно прибегал к словесному великолепию для описания вещей довольно-таки мелких. До того дня он вел монотонную, без единого взлета жизнь, зажатую в от века определенные границы, но верил, что рожден для некоего безбрежного существования, исполненного приключений и непредвиденных случайностей, что он создан для битв на суше и на море, для путешествий по затерянным землям, для нескончаемого блуждания по свету.