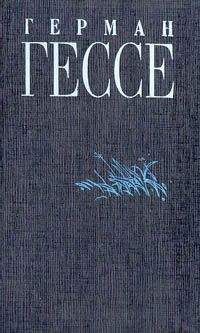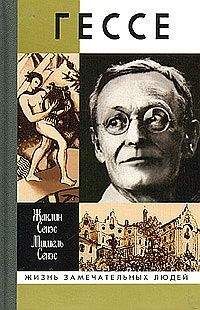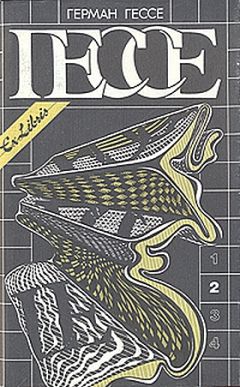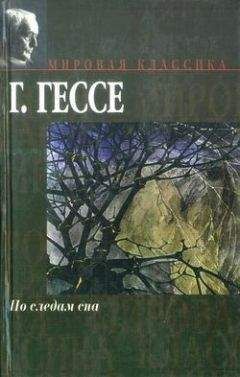Герман Гессе - Петер Каменцинд
В Перудже и Ассизи исторические исследования мои вновь приобрели смысл и живость. А поскольку там даже самый быт граничил с блаженством, то занемогшая душа моя вскоре начала исцеляться и наводить новые временные мосты в жизнь.
Ассизская хозяйка моя, словоохотливая и набожная торговка овощами, после нескольких бесед со мною о легендарном санто поклялась мне в вечной дружбе и расхвалила меня во всей округе как истового католика. Славе этой, хоть и полученной мною незаслуженно, я обязан был тем преимуществом, что мог близко сходиться с людьми, будучи свободным от подозрения в язычестве, которое неминуемо ложится на всякого чужеземца. Аннунциата Нардини – так звали хозяйку, вдову тридцати четырех лет от роду, – отличалась необъятными телесами и прекрасными манерами. По воскресным дням она в своем ликующе-пестром платье в цветочек выглядела живым воплощением праздника; на груди у нее в дополнение к сережкам всякий раз мелодично позвякивало и сверкало монисто, состоявшее из золотой цепи со множеством золотых же медалек. Довершали ее воскресное убранство тяжелый, отделанный серебром молитвенник, который она повсюду таскала с собой и воспользоваться которым ей было бы весьма не просто, и красивые черно-белые четки с серебряными цепочками, которые она перебирала с тем большею ловкостью. Когда она, сидя в лоджетте между двумя мессами, перечисляла не сводящим с нее восторженных глаз соседкам грехи отсутствующих подружек, на круглом благочестивом лице ее было написано трогательное блаженство примиренной с Богом души.
Меня по причине невозможности выговорить мое имя все называли просто синьор Пьетро. Прекрасными золотистыми вечерами мы сидели все вместе – соседи, дети и кошки – в крохотной лоджетте или в лавке, посреди фруктов, корзин с овощами, коробок с семенами и развешенных копченых колбас, поверяли друг другу свои заботы, обсуждали виды на урожай, покуривали сигары или посасывали ломтики арбуза. Я рассказывал о св. Франциске, о Портиункуле и о церкви святого, о св. Кларе и о первых братьях-францисканцах. Меня внимательно слушали, засыпали маленькими, бесхитростными вопросами и, похвалив святого, переходили к обсуждению более новых и сенсационных событий, среди которых особой популярностью пользовались истории о разбойниках и политические распри. Между нами играли, возились и барахтались дети, кошки и собачата. Повинуясь своему собственному желанию и чтобы оправдать свою добрую репутацию, я прочесывал жития святых в поисках назидательных и трогательных историй и не мог нарадоваться, что среди нескольких книг, привезенных мною с собой, оказались и «Жития праотцев и других богопреданных лиц» Арнольда; они-то и служили мне источником простосердечных анекдотов, которые я с небольшими вариациями передавал на своем скверном итальянском. Прохожие останавливались ненадолго, кто послушать, а кто поболтать, и таким образом компания менялась порой три-четыре раза за вечер. Только мы с госпожой Нардини были по-настоящему оседлыми и всегда оставались на месте. Подле меня неизменно стоял фиаско с красным вином, и я немало импонировал этим бедным, умеренно живущим человечкам своей внушительной мерой возлияний. Робкие соседские девушки тоже постепенно прониклись ко мне доверием и все чаще вступали в разговор, стоя у порога, принимали от меня в подарок картинки и вскоре окончательно уверовали в мою святость, так как я не только не докучал им развязными шутками, но и вообще не заботился о том, чтобы добиться их расположения. Среди них было несколько большеглазых мечтательных красавиц, словно сошедших с полотен Перуджино. Они нравились мне все без исключения, я от души радовался их добродушно-лукавой красоте, но ни в одну из них не был влюблен, ибо самые хорошенькие из них так похожи были друг на друга, что красоту их я воспринимал лишь как свидетельство принадлежности к одной и той же породе, а не как личное преимущество. Нередко к нам присоединялся и Маттео Спинелли, молодой паренек, сын булочника, пройдоха и шутник. Он ловко подражал всевозможным животным, знал подробности всех скандалов, и голова его, казалось, вот-вот должна была лопнуть от переполнявших ее хитроумных и дерзких проказ. Когда я рассказывал легенды, он слушал с неописуемым благочестием и смирением, а затем, к ужасу торговки, и нескрываемому удовольствию большинства слушателей, с невинным видом высмеивал святых отцов в злочестивых вопросах, предположениях и сравнениях.
Часто мы сидели вдвоем с госпожой Нардини; я внимал ее назидательным речам и грешным образом забавлялся ее многочисленными слабостями. От нее не мог укрыться ни один порок или недостаток близких; она заранее с ошеломляющей тщательностью определяла каждому из них его место в чистилище. Меня же она заключила в свое сердце и делилась со мною даже самыми мельчайшими впечатлениями и наблюдениями, откровенно и обстоятельно. Она спрашивала меня после каждой сделанной мною покупки, сколько я заплатил, и зорко следила за тем, чтобы меня не обманули. Я рассказывал ей о жизни святых, она же посвящала меня в секреты кухни, торговли овощами и учила, как правильно покупать фрукты. Однажды вечером мы сидели под ветхими сводами овощной лавки. Я только что к бешеному восторгу детворы и молоденьких девушек спел швейцарскую песню, разразившись йодлером. Они визжали от удовольствия, пытались имитировать звуки чужого языка и показывали, как забавно дергался вверх-вниз мой кадык во время переливов. И тут кто-то вдруг заговорил о любви. Девушки захихикали, госпожа Нардини закатила глаза и томно вздохнула, и дело кончилось тем, что меня уговорили рассказать о моих любовных приключениях. Умолчав об Элизабет, я поведал им о катании на лодке с Аглиетти и о своем задушенном признании. Странно мне было рассказывать эту историю, о которой не знал никто, кроме Рихарда, моим любопытным умбрийским друзьям, здесь, посреди узеньких каменных переулков и холмов, объятых золотистым, благоуханным южным вечером. Я рассказывал без излишней рефлексии, в духе старых новелл, и все же сердце мое не могло остаться безучастным, и я втайне опасался, как бы слушатели мои не рассмеялись и не принялись дразнить меня.
Когда я кончил, ко мне были прикованы сочувственные взоры всех присутствующих.
– Такой красивый мужчина! – живо воскликнула одна из девушек. – Такой красивый мужчина – и такая несчастливая любовь!
Госпожа Нардини осторожно провела своей круглой, мягкой ладонью по моим волосам и промолвила:
– Роverinо![6]
А другая девушка подарила мне большую грушу. Я попросил ее первой откусить от нее, и она исполнила мою просьбу, серьезно глядя мне в глаза. Когда же я и другим предложил откусить, она запротестовала:
– Нет, ешьте сами! Я подарила ее вам! Потому что вы нам рассказали о своем несчастье.
– Ну теперь-то вы уж непременно полюбите другую, – сказал мне загорелый дочерна виноградарь.
– Нет, – ответил я.
– О! Вы все еще любите эту злую Эрминию?
– Я теперь люблю святого Франциска, а он научил меня любить всех людей, и вас, и перуджийцев, и вот этих детей, и даже возлюбленного Эрминии.
Идиллический покой тех дней был, однако, вскоре нарушен определенными сложностями и опасностями, когда вдруг открылось, что синьора Нардини проникнута страстным желанием: чтобы я навсегда остался в Ассизи и женился на ней. Эта маленькая щекотливая история сделала из меня искуснейшего дипломата, ибо развеять ее мечты, не разрушив при этом гармонии и не лишившись сладостно-безмятежной дружбы, оказалось делом весьма нелегким. Да и пора уже было собираться в обратный путь. Если бы не моя мечта о прекрасной поэме и не угрожающе растущая пустота в моем кошельке, я бы остался. Возможно, я бы даже женился на Нардини – именно из-за этой пустоты в кошельке. А впрочем, нет: мне не позволили бы сделать это еще не зарубцевавшаяся рана, нанесенная Элизабет, и желание вновь увидеть ее.
Вопреки ожиданию пышка-вдова легко смирилась с неизбежностью, и мне не пришлось поплатиться за ее разочарование. Когда я уезжал, то для меня расставание было, пожалуй, тяжелее, чем для нее. Я оставлял здесь много больше, чем мне когда-либо доводилось оставлять на родине, и никогда и нигде мне не дарили на прощание столько сердечных рукопожатий. Мне дали в дорогу фруктов, вина, сладкой водки, хлеба и целую колбасу, и у меня появилось непривычное чувство предстоящей разлуки с друзьями, которым было небезразлично, уеду я или останусь. Госпожа Аннунциата Нардини расцеловала меня на прощание в обе щеки и прослезилась.
Раньше я полагал, что это, верно, особое наслаждение – быть любимым, не отвечая взаимностью. Теперь же я узнал, как мучительно неловко бывает перед лицом предлагаемой любви, которая не рождает ответного чувства. И все же я испытывал легкую гордость от того, что меня любит и желает стать моей женой чужая женщина. Уже одно лишь это маленькое проявление тщеславия означало для меня большой шаг к исцелению. Мне было жаль госпожу Нардини, однако я не хотел бы ничего изменить. К тому же я постепенно все больше понимал, что счастье едва ли зависит от исполнения внешних желаний и что страдания влюбленных юношей, как бы мучительны они ни были, лишены всякой трагики. Мысль о том, что Элизабет не досталась мне, конечно же, причиняла боль, но моей жизни, моей свободы, моей работы и моих мыслей у меня никто не отнимал и не ограничивал, а любить ее по-прежнему я могу и на расстоянии, сколько мне заблагорассудится. Подобные рассуждения, а еще более наивная веселость моего умбрийского бытия, продлившегося несколько месяцев, пошли мне на пользу. У меня с давних пор был развит вкус ко всему смешному и забавному, однако ирония моя лишала меня удовольствия пользоваться этим даром, и вот теперь у меня постепенно открылись глаза на юмор, которым щедро сдобрена жизнь, и мне все сильнее верилось, что это возможно и даже легко – примирившись с судьбой, еще успеть отведать того или иного лакомства на пиру жизни.