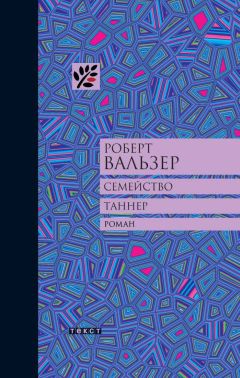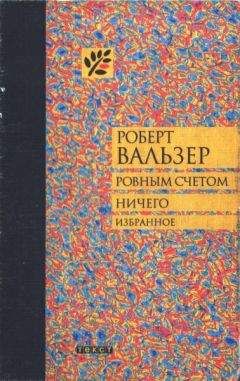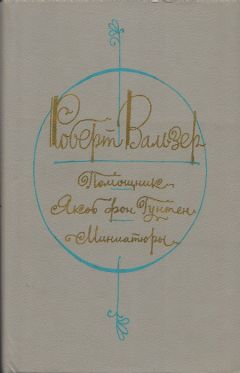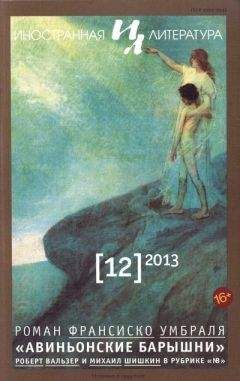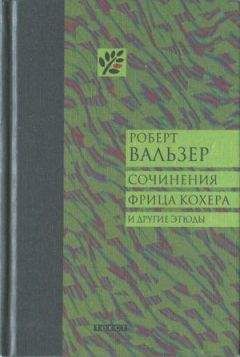Роберт Вальзер - Разбойник
Удивительно, как мы нынче самодостаточны. В последнее время моё поведение освещено солнцем довольства собой. Это ужасно. Но, к сожалению, подтверждённый факт. Я абсолютно милосерден ко всем своим недостаткам. Моя самооценка являет собой стоящее зрелище. Знакомая пара, по всей видимости, оказала себе славную услугу. А прежде она себе навредила. Из чистой напыщенности я занимаюсь подобным вычислением: кто себе навредил, кто оказал себе услугу, и почему, и в какой степени. Такие мысленные упражнения несут в себе острое наслаждение. Я почти превратил в спорт серьёзное беспокойство о других людях. Естественно, что я при этом не вмешиваюсь ни в чьи личные обстоятельства. Я держу свои догадки при себе. Мой достойный внимания принцип гласит: кто не оказывает мне услугу, тот вредит себе. Не правда ли, это неслыханно удачная мысль? Далее правило гласит: кто оказывает мне любезность и вежливость, тот несёт тот или иной ущерб. Невероятная логика, правда? Всё это мне весьма интересно, точнее говоря, удивительно. Мой разбойник тоже часто задумывался над экономикой и проч., и правильно делал. «Теперь или никогда!» — сколько раз случалось ему произнести. И там тоже, где ему пришлось встать на цыпочки, чтобы лучше видеть заведение, в стенах которого можно было разглядеть Эдит, там он тоже себе это сказал. Но с каких, однако же, пор началось это бездельничанье, это вставание на цыпочки в попытке казаться выше, тоньше, значительней и внушительнее, чем в действительности? Милый мальчик. Мы снова отменно его отчитали. Выберется ли он из этой истории целым и невредимым? Эта возможность молча глядится в себя с самодостаточностью. «Теперь или никогда!» В этом восклицании есть романтика. Оно может быть весьма умным, но и очень безрассудным. А потом он пошёл дальше и забыл умное и одновременно глупое восклицание, шаг за шагом через площадь, с отвагой глядя по сторонам, и отвага заставляла его думать о себе как о современном герое романа, а потом он остановился у таблицы, на которой значились курсы валют. Где это он оплатил актёру стакан светлого неповторимым жестом знатока светских манер? Мы склоняемся к мнению, что деликатнейшее писательство милее всего, и надеемся на понимание. Те, кому я должен деньги, навредили себе, они были слишком доверчивы. Снова что-то вроде делового принципа, хотя, конечно, не совсем всерьёз. Иногда говоришь вот так что-нибудь необдуманное, даже пошловатое, и смотри-ка, оказывается не без смысла. С шутками тоже так бывает. Но далее! К фрейлейн Сельме мы сейчас вернёмся, т. е. минут через десять и с удовольствием. Эта замечательная особа, вполне возможно, успела опутать чарами читателя. Опутала ли она разбойника? Ей казалось, что по возможности — да. Ему и самому, пожалуй, время от времени так казалось. Люди любят внушать себе всякое. В любом случае, она обладала вполне соответственной мерой духовного развития. Мы опишем её так, чтобы её можно было назвать фигурой, не лишённой юмора, и в качестве персонажа очень даже отрадной. Кстати, та пара дамских ролей у Диккенса в великом романе. Как же он называется? Да почему я, собственно, должен помнить? Весь мир знает эту книгу, и все, у кого есть понятие, принимают её не иначе как с восхищением. Когда Диккенс говорит о прекрасных женщинах, он становится бесконечно мягок, а его речь — любвеобильна и изощрена. Никто другой не умеет так польстить женскому полу. Он, видимо, считал это крайней необходимостью, да так оно и есть. Перед тем, кому хочешь польстить, неизбежно испытываешь что-то вроде сознания вины, и, кроме того, вменяешь ему в задачу осмыслить лесть, а это задача, требующая ума. Так или иначе, в зеркальном зале, в котором среди прочего играли на наличные деньги, однажды вечером произошло свидание Ванды и Эдит, о котором я уже рассказывал. Как спокойно обращались они друг к другу, и как печально и прекрасно при этом выглядели. В переговорах они не слишком излили, зато, наверное, несколько облегчили душу. А за плотно задвинутым занавесом стоял предмет разговора, наш разбойник, и слышал всё слово в слово, а мы, рассказчик, стояли рядом и призывали его к непредвзятости, шепча в самое ухо: «Не горячись и будь, по возможности, артистичен». И этот «странный юноша», как его назвала Сельма, послушался нас, хотя его всё тянуло выступить из-за занавеса, так сильно сотрясала его жажда принять участие в единственном в своём роде разговоре. Сам он никогда не играл на деньги в том игорном зале, но с интересом наблюдал за игрой. Некоторые друзья склоняли его к участию. Мы говорим, друзья. Но не надо воспринимать наши слова буквально. Он имел некоторые знакомства, в том числе, знал одного американца и ещё, среди прочих, молодого юриста. Он не был так уж далёк от жизни в свете, хотя и не беспрекословно близок к ней. «Что это с вами, — коротко и ясно сказала ему на лестнице молодая женщина из словно бы несколько легкомысленных кругов, — я вас даже побаиваюсь. Вы ужасно безобидный, но ведь в это же невозможно поверить. Чем вы, собственно, занимаетесь? Охраняете сокровища царя страны Артурцулатакозия? Что? Молчите? Как странно ваше молчание в окружающей нас полутьме. Я права, считая вас странным человеком? Фу, как вы себя ведёте. Я слышала, что вы страдаете и получаете от этого удовольствие. Так что вы в состоянии проглотить обидное обхождение, как если бы вам это было всласть. Мне оскорбительно, что вы так сухо стоите передо мной и не сообщаете, что мне о вас думать. Но я уже сказала, что боюсь вас, и настаиваю на своих словах, понимаете? Я приложу все усилия, чтобы считать вас опасным. Вы опасны тем, что вовсе не представляете опасности. Вы озорник, знаете вы это? А знаете, почему? Потому что нет никаких причин считать вас таковым. Это очень плохо». «Смею вас заверить, я очень интересный человек», — сказал разбойник. Как будто невероятно просто и чистосердечно. Он как раз приобрёл кепку в шляпном магазине и поэтому спросил даму, которая страдала маленьким, очень-очень маленьким недостатком ответственности в отношении норм вежливости, к лицу ли ему кепка. «Более-менее», — сказала она с неудовольствием, и с этой самой кепкой на голове он потом пошёл туда, где и встал на цыпочки. Неважность этого образа действия показалась ему важной. На следующий день он получил письмо без подписи, которое гласило: «Уважаемый, можно ли Вас после этого ценить? После того, что Вы проделали сегодня у всех на глазах, едва ли. Вы ведёте себя как школьник. Вы трусливы. Из одной только мании величия Вы изображаете из себя гимназистку. Потому что заглядывать в окно с улицы, радуясь зажжённым внутри огням, и смаковать блюда, поедаемые на Ваших глазах другими, — на такое способны только гимназистки. Вы попираете родителей и даёте пощёчины обучению, Вами полученному. Это скандал. Ваши учителя когда-то со всей прилежностью объясняли Вам, в чём состоят заслуги Сюлли, Вобана, Кольбера[21]. Вы что, забыли о Риме, забыли о Греции? Ну Вы и фруктик! Неужто на Вас не производит никакого впечатления, когда навстречу попадаются господа, сопровождающие господ в цилиндрах на голове? Не будит ли в Вас этот спектакль недобрых предчувствий? Забыли, как Вас бранили, причём неоднократно? Это письмо призвано вызвать у Вас тошноту. Вас хотят спасти, выражая желание принудить Вас выбирать развлечения таким образом, чтобы в Вас проснулось чувство, способное внушить порядочность. Порядочность, в первую очередь, состоит из презрения к окружающим, которые почти все без исключения — люди конченые. Однако создаётся впечатление, что Вы не желаете этого понимать. Но когда-нибудь Вам придётся осознать эту истину. Кепка Вам не идёт. Она придаёт Вам заурядный вид. Вы неприятным образом привлекаете внимание тонко чувствующих людей. Все существующие дяди своих племянников сердиты на Вас. Вашими трудами протестантские тётушки ощущают тягу перекреститься и таким образом совершить существенное нарушение предписания. Что, разве Вы не давали себя распекать и не смеялись над упрёками, и не переселитесь ли к капризной хозяйке по имени Сельма, и не будете ли там только и делать, что смотреть с балкона вниз на лошадку молочника и наблюдать за солнцем, как оно светит на лошадиную спину, и наблюдать за балконом, как солнце касается его лучами, и наблюдать за кровельщиками, как они латают крышу, и рассматривать даму, рассматриваемую другой дамой, потому что она больная, и глазеть на ворота во двор, которые будут открываться и закрываться особами, которые будут входить и выходить, а потом думать о том, чтобы вернуться с балкона в комнату, которую Вы в своём высокомерии, каковое с легкостью переходит в заносчивость, а там и в полную потерю всякой меры, наградите титулом покоев?» Он прочёл письмо и сказал себе: «Уверен, что точно так всё и будет». У него возникло чувство защищённости из-за того, что его так отчитывали. Не каждому выпадает на долю такая честь.
Прежде чем заняться капризной особой, которая, правда, была разбойнику мила, в капризах есть своя прелесть, так он считал, мы представим вам двух школьных товарищей разбойника. Эти двое далеко пошли. Один стал врачом, другой — печатником. Со временем он дорос до начальника по техническим вопросам. Достигши этого поста, он однажды повстречался с разбойником на выставке картин и сказал: «Ты мне не очень нравишься. Надеюсь, как-нибудь в другой раз ты мне понравишься больше». Тот, кому принадлежали эти слова, обедал в очень элегантном пенсионе. Это был самый элегантный во всём городе, даже как будто феодальный пенсион, и им управляла уже не слишком молодая дама, долгое время проживавшая в Англии. В один прекрасный день начальник одной из самых элегантных типографий города сказал хозяйке пенсиона: «Я думаю, что вы мне симпатичны. Всё ваше поведение выражает самостоятельность. Представься возможность, я бы с большой охотой женился. Простите мне, что выражаю вслух это нежное желание. Когда мы пытаемся выразить нечто нежное, то зачастую получается не слишком нежно. Я ощущаю, как теплота к вам уже заполняет всё моё существо. Выражение 'заполняет ' вы, возможно, сочтёте неуместным. Мне тоже так кажется. Так что мы с вами в этом пункте согласны, моя дорогая и безгранично почитаемая фрейлейн. Глубоко сожалею, что упомянул о безграничном почитании, потому что это звучит как неблагонадёжность. Поэт ли я? Нет. Пользуюсь ли некоторым уважением? Да. И как персона с немалым весом, т. е. как тот, кто с течением времени кое-чего достиг и кто к вам сердечно расположен, я предлагаю заняться общим делом и для этой цели соединить наши руки семейными узами». Он произнёс это торжественно, но искренне, и она видела его насквозь. В этот миг он был словно сделан из прозрачного стекла, сквозь которое виднелась его внутренность, т. е. добропорядочность намерений, прямо лопающаяся по швам от благородства, так что она упала на грудь начальника одной из самых элегантных типографий города, чем намекнула, что выражает согласие с предложением и по этому поводу счастлива. А тут ещё разразилась мировая война, и пенсион начал обретать известность среди иностранцев, которые под маркой пацифизма нашли благоразумным удалиться из стесняющих обстоятельств, навязанных гражданам их ведшими войну странами. Пенсион, который стал и его тоже собственностью, превратился теперь в настоящий, действительный и безупречный пенсион для публики с образованием и миролюбивым уклоном, а поскольку публика была всё состоятельная и порой пописывала пламенные антивоенные статейки, которые попадали в печать, то дело процветало, чему сопутствовало прекрасное и полное на то право. А другой из этих двух товарищей по школе с каким-то тихим, несколько сонным рвением сделался врачевателем душ. Поскольку с душой неразрывно связаны нервы, он одновременно являлся специалистом по нервным болезням, а поскольку слабые и тонкие нервы, которые требуют наблюдения и заботы, иногда обнаруживаются скорее у женщин, то этого врачевателя душ, которого в основном волновали нервы, можно было считать и женским врачом, и в качестве такового он приобрёл отменную репутацию, причём, надо сказать, весьма нетрудоёмким путём, как и почти во всех удачливых карьерах: они, по сути, держатся на своеобразной небрежности и самотёке. Говорили, что он особенно умел тронуть материнские сердца так изящно и утончённо, что ему сразу целиком и полностью препоручался весь имевшийся в наличии дочерний состав. Таковым методом он и достиг в конечном счёте славы и денег. Он умел польстить, взгляд у него был проницательный, тушил любое беспокойство, и этим взглядом он словно и составил себе счастье, женившись в возрасте старого холостяка на вполне молодой и красивой женщине, которая своим присутствием и приданым, вне сомнения, в значительной степени усугубила его и без того уже внушительный уют. И вот в то время как эти два школьных товарища поднимались по ступеням изрядной бюргерской лестницы, разбойник шёл к фрейлейн Сельме и вежливо спрашивал, не может ли быть ей в той или иной форме полезен. Он снова рассмеялся, а она посмотрела на него с удивлением. «Что вам угодно?» — спросила она. Она пила кофе и читала газету. Заметим, что фрейлейн Сельма жила по большей части бесплотно, иначе говоря, питалась слабо и нежно, другими словами, предписывала себе ограничения по кулинарной части. А ещё у фрейлейн Сельмы проживала русская студентка.