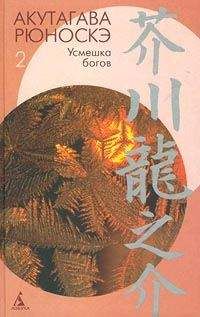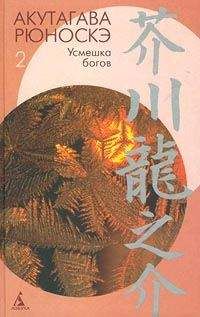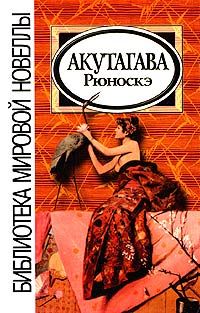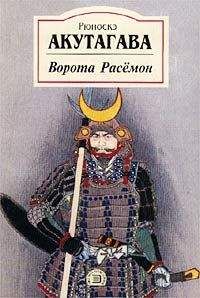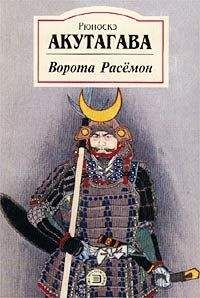Акутагава Рюноскэ - Новеллы
До сих пор ей было только тоскливо, но от этой мысли стало вдобавок страшно, и она почувствовала, что больше здесь ей не выдержать ни минуты. В самом деле, если она попала в руки к преступнику, кто знает, что еще ждет ее впереди?
Решила она бежать и кинулась было к выходу, но вдруг из-за корзин кто-то ее хрипло окликнул. Само собой, она испугалась, — ведь она думала, что в пагоде нет ни души. Глядит — какое-то существо, не то человек, не то трепанг, сидит, свернувшись, между нагроможденными кругом мешками с золотым песком. Оказалось, это монахиня лет шестидесяти, сгорбленная, низенькая, вся в морщинах, с гноящимися глазами. Догадалась ли старуха, что задумала девушка, нет ли, только она вылезла из-за мешков и поздоровалась вкрадчивым голосом, какого нельзя было от нее ожидать, судя по ее виду.
Особенно бояться было нечего, но девушка подумала, что, если она выдаст свое намерение убежать отсюда, будет худо, и потому волей-неволей облокотилась на ящик и нехотя повела обычный житейский разговор. Старуха сообщила, что живет у этого человека в служанках. Но стоило девушке завести разговор о его ремесле, как старуха почему-то умолкала. Это тревожило девушку, к тому же монахиня была глуховата и сто раз переспрашивала одно и то же. Все это девушку расстроило чуть не до слез.
Так продолжалось до полудня. И вот пока беседовали они о том, что в Киёмидзу распустились вишни, о том, что закончена постройка моста Годзё, монахиня задремала, должно быть, от старости. А может быть, это случилось оттого, что отвечала девушка довольно лениво. Тогда девушка, улучив минуту, тихонько подкралась к выходу, прислушалась к сонному дыханию старухи, приоткрыла дверь и выглянула наружу. На улице, к счастью, не было ни души.
Если бы она тут же и убежала, ничего бы дальше и не было, но она вдруг вспомнила об узорчатой ткани и о шелке, которые получила утром в подарок, и тихонько вернулась за ними к ящикам. И вот, споткнувшись о мешок с золотым песком, она нечаянно задела за колено старухи. Сердце у нее замерло. Монахиня испуганно открыла глаза и сначала никак не могла понять что к чему, но затем вдруг как полоумная вцепилась ей в ноги. И, чуть не плача, что-то быстро забормотала. Из тех обрывков, которые улавливала девушка, только можно было понять, что если, мол, девушка убежит, то ей, старухе, придется плохо. Но так как оставаться здесь было опасно, то девушка вовсе не склонна была прислушиваться к таким речам. Ну, тут они в конце концов и вцепились друг в друга.
Дрались. Лягались. Кидали друг в друга мешки с золотым песком. Такой подняли шум, что мыши чуть не попадали с потолочных балок. К тому же старуха дралась как бешеная, так что, несмотря на ее старческую немощь, совладать с ней было нелегко. И все же, должно быть, сказалась разница в летах. Когда вскоре после того девушка с узорчатой тканью и шелком под мышкой, задыхаясь, выбралась за дверь пагоды, монахиня осталась лежать недвижимой. Об этом девушка услыхала уже потом — ее труп, с испачканным кровью носом, с ног до головы осыпанный золотым песком, лежал в полутемном углу, лицом вверх, точно она спала.
Девушка же ушла из храма Ясакадэра, и когда наконец показались более населенные места, зашла к знакомому в Годзё-Кёгоку. Знакомый этот тоже сильно нуждался, но, может быть, потому, что она дала ему локоть шелка, принялся хлопотать по хозяйству: приготовил ванну, сварил кашу. Тут она впервые облегченно вздохнула.
— Да и я наконец успокоился!
Подмастерье вытащил из-за пояса веер и ловко раскрыл его, глядя сквозь занавеску на вечернее солнце. Только что между ним и заходящим диском солнца промелькнули с громким хохотом несколько похоронных факельщиков, а тени их еще тянулись по мостовой…
— Значит, на этом и делу конец?
— Однако, — старик покачал головой, — пока она сидела у знакомого, на улице вдруг поднялся шум и раздались злобные крики: поглядите, вот он, вот он! А так как девушка чувствовала себя замешанной в темное дело, у нее опять сжалось сердце. Вдруг тот вор пришел рассчитаться с ней? Или за ней гонится стража? От этих мыслей каша не лезла ей в горло.
— Да ну?
— Тогда она тихонько выглянула из щели приоткрытой двери: окруженные зеваками, торжественно шли пять-шесть стражников; их сопровождал начальник стражи. Они вели связанного мужчину в рваной куртке, без шапки. По-видимому, поймали вора и теперь тащили его, чтоб на месте выяснить дело.
Этот вор — уж не тот ли самый, что заговорил с ней вчера вечером на склоне Годзё? Когда она увидела его, ее почему-то стали душить слезы. Так она мне сама говорила, но это не значит, что она в него влюбилась, вовсе нет! Просто, когда она увидела его связанным, у нее сразу защемило сердце, и она невольно расплакалась, вот как это было. И вправду, когда она мне рассказывала, я сам расстроился…
— Н-да…
— Так вот, прежде чем помолиться Каннон-сама, надо подумать!
— Однако, дедушка, ведь она после этого все-таки выбилась из бедности?
— Мало сказать «выбилась», она живет теперь в полном достатке. А все благодаря тому, что продала узорчатую ткань и шелк. Выходит, Каннон-сама сдержала свое обещание!
— Так разве нехорошо, что с ней все это приключилось?
Заря уже пожелтела и померкла. То там, то здесь еле слышно шелестел ветер в бамбуковой роще. Улица опустела.
— Убить человека, стать женой вора… на это надо решиться…
Засовывая веер за пояс, подмастерье встал. И старик уже мыл водой из кружки выпачканные глиной руки. Оба они как будто чувствовали, что и в заходящем весеннем солнце, и в их настроении чего-то не хватает.
— Как бы там ни было, а она счастливица.
— Куда уж!
— Разумеется! Да дедушка и сам так думает.
— Это я-то? Нет уж, покорно благодарю за такое счастье.
— Вот как? А я бы с радостью взял.
— Ну так иди, поклонись Каннон-сама.
— Вот-вот. Завтра же засяду в храме!
Декабрь 1916 г.
Показания Огата Рёсай
Перевод И. Львовой
Повинуясь высокому указанию, почтительно сообщаю властям предержащим обо всем, что я видел и слышал собственнолично, о том, как в последнее время сторонники христианства творят злокозненные дела и смущают умы в нашей деревне.
Итак, сообщаю, что третьего месяца седьмого дня сего года в дом ко мне явилась женщина по имени Сино, вдова Ёсаку, здешнего землепашца, и, ссылаясь на то, что девятилетняя дочь ее Сато тяжело захворала, слезно просила меня осмотреть больную.
Вышеназванная Сино, третья дочь крестьянина Собэя, десять лет назад была просватана за крестьянина Ёсаку, от брака с коим родила дочь Сато, однако вскоре муж ее от болезни скончался, после чего Сино вторично в брак не вступала, добывая себе скудное пропитание ткачеством и поденной работой. Сразу же после кончины мужа она по какому-то наваждению всецело предалась христианской ереси и часто навещала живущего в соседней деревне христианского патэрэн, по прозванию Родриге, из-за чего многие односельчане утверждают, будто Сино вступила с оным патэрэн в незаконную связь. Родные Сино, и прежде всего отец ее Собэй, а также братья и сестры, всячески увещевали ее, уговаривая одуматься, она же, нимало не внимая этим советам, денно и нощно молилась вместе с дочерью Сато перед курусу, каковой представляет собой крохотный столбик с перекладиной для распятия, и даже пренебрегала посещением могилы покойного мужа, отчего в настоящее время не только близкие и дальние ее родственники, чтя закон, прервали с ней всякие отношения, но и на деревенских сходках не раз уже обсуждался вопрос, не изгнать ли ее вовсе из деревни.
В силу этого, несмотря на усиленные ее мольбы, я объявил ей, что навестить больную мне никак невозможно, и она удалилась, заливаясь слезами, но назавтра, восьмого дня, снова явилась, повторяя: «Век не забуду вашу доброту, умоляю, навестите больную!» И сколько я ни отказывался, никак не хотела слушать, в довершение же своих просьб бросилась на пол в прихожей моего дома, сокрушаясь и укоряя: «Призвание врача — исцелять людские недуги… Уму непостижимо, как можете вы не внять мне, когда я молю о тяжело занемогшем моем ребенке!» Я же ответил: «Сказано справедливо, но ежели я отказываюсь лечить больную, значит, тем более согласись, к тому имеются веские основания. Скажу напрямик — поведение твое давно уже весьма непохвально, особливо же плохо то, что ты постоянно поносишь богов и Будду, коих почитаю я и все наши односельчане, и твердишь, будто мы поклоняемся сим святыням по наущению бесов и дьявола, — об этом мне доподлинно известно от людей верных. Как же ты, столь праведная и чистая, просишь ныне меня, одержимого дьяволом, исцелить твою дочь? С таковой просьбой надлежит тебе обратиться к дэусу, ему ты и поклоняешься столь усердно. Однако, если ты во что бы то ни стало желаешь, чтобы я все-таки осмотрел твоего больного ребенка, признай же отныне и навсегда, что вера твоя — бесплодное заблуждение. Если же ты на это не согласишься, то, сколько бы ты ни твердила, что врачевание — ремесло гуманное, я наотрез отказываюсь оказать тебе помощь, ибо и мне ведом страх перед карой богов и Будды!» Так говорил я с ней, и Сино волей-неволей пришлось отправиться восвояси, хотя я отнюдь не был уверен, что она по-настоящему поняла мои доводы.