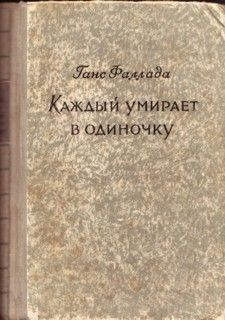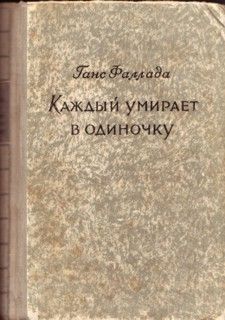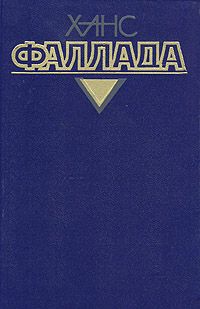Один в Берлине - Фаллада Ганс
Ах, вон оно что! Нет, эту Тутти они больше знать не желают! Пусть даже и не думает сюда соваться — о ней здесь и слышать никто не хочет!
С этими словами буфетчица возмущенно отворачивается от Энно. Клуге бормочет извинения и поспешно покидает кафе. В растерянности, не зная, как быть, он стоит на ночной улице, когда из кафе выходит еще один посетитель, пожилой, на взгляд Энно — довольно потрепанный. Делает шаг-другой в сторону Энно, потом, собравшись с духом, снимает шляпу и спрашивает, не он ли только что спрашивал в кафе про некую Тутти.
— Не исключено, — осторожно отвечает Энно Клуге. — А почему вы спрашиваете?
— Да так. Просто могу вам сказать, где она проживает. Даже готов проводить вас до ее квартиры, только взамен и вы сделайте мне небольшое одолжение!
— Какое такое одолжение? — еще осторожнее спрашивает Энно. — Не знаю, что за одолжение я могу вам сделать. Мы же с вами незнакомы.
— Ах, да пойдемте же! — восклицает пожилой. — Нет-нет, сюда, так короче. Дело вот в чем: у Тутти остался чемоданчик с моими вещами. Может, завтра утром быстренько вынесете его мне, пока Тутти спит или ходит за покупками?
(Пожилой, видать, совершенно уверен, что Энно останется у Тутти на ночь.)
— Не-ет, — говорит Энно. — Не вынесу. Я в такие дела не лезу. Извините.
— Но я могу точно вам сказать, что лежит в чемоданчике. Он вправду мой!
— Тогда почему вы сами Тутти не попросите?
— Ну, коли вы этак говорите, — обиженно отзывается пожилой, — то, стало быть, Тутти не знаете. Это ж бой-баба, иначе не скажешь! За словом в карман не лезет, да что там, у ней не язык, а бритва! Кусается и плюется, как макака! Недаром ее и прозвали Макакой!
Пока пожилой господин набрасывает словесный портрет очаровательной Тутти, Энно Клуге с ужасом вспоминает, что Тутти действительно такая и есть и что последний раз он увел у нее портмоне и продуктовые карточки. А в сердцах она впрямь кусается и плюется, как макака, и, пожалуй, немедля обрушится на него, Энно, если он сейчас к ней сунется. Все его фантазии насчет ночлега у Тутти — в самом деле только фантазии…
Внезапно Энно Клуге с легкостью решает отныне жить по-другому — никаких историй с бабами, никаких мелких краж, никакой игры на бегах. В кармане у него сорок шесть марок, вполне хватит до ближайшего платежного дня. Завтра он еще позволит себе отдохнуть, потому что слишком измучен, а вот послезавтра опять начнет трудовую жизнь. Всем покажет, что таких работников днем с огнем не сыщешь, и на фронт его нипочем не отправят. После всего, что случилось за последние двадцать четыре часа, он в самом деле рисковать не может и к Тутти не пойдет.
— Н-да, — задумчиво произносит Энно Клуге, обращаясь к пожилому. — Верно, Тутти, она такая. Поэтому я раздумал к ней идти. Заночую вон в той маленькой гостинице. Доброй ночи, сударь… Сожалею, но…
С этими словами он осторожно — каждое движение отдается болью в измолоченном теле — идет прочь и, несмотря на замордованный вид и полное отсутствие багажа, выпрашивает у потрепанного швейцара ночлег за три марки. В тесной, вонючей каморке забирается в постель, явно послужившую уже не одному постояльцу, вытягивается, говорит себе: отныне буду жить совсем иначе. Я вел себя как последняя сволочь, особенно по отношению к Эве, но с этой минуты стану другим. Взбучку я получил по заслугам, но отныне непременно стану другим…
Он тихонько лежит на узкой койке, руки по швам, и смотрит в потолок. Дрожит от холода, от изнеможения, от боли. Но не замечает этой дрожи. Думает, каким уважением и любовью, бывало, пользовался на работе и кем теперь стал — облезлый тип, на которого все плюют. Н-да, взбучка пошла ему впрок, теперь все изменится. И, рисуя себе новую жизнь, Энно засыпает.
Спит и семейство Персике, спят Геш и Эва Клуге, спят супруги Баркхаузен — Эмиль молча позволил Отти примоститься рядом.
Тревожно, тяжело дыша, спит старушка Розенталь. Спит и юная Трудель Бауман. Под вечер она сумела шепнуть одному из заговорщиков, что непременно должна кое-что сообщить и что завтра вечером им обязательно нужно встретиться в «Элизиуме», причем не привлекая внимания. Она побаивается, потому что должна признаться в болтливости, но все-таки засыпает.
Анна Квангель в потемках лежит на кровати, а муж ее в эту ночную пору, как всегда, в цеху, внимательно следит за рабочим процессом. В технический отдел по поводу рационализации производства его так и не вызвали, там тоже считают его полным идиотом. Что ж, тем лучше!
Анна Квангель, лежа в постели без сна, снова и снова поражается, до чего муж холодный и бессердечный. Как он воспринял смерть Оттика, как выпроваживал из квартиры бедняжку Трудель и Розентальшу — холодно, бессердечно, думая только о себе. Никогда больше она не сможет относиться к нему как раньше, когда думала, что он хоть немножко любит ее. Теперь-то она поняла. Он просто обиделся на ненароком сорвавшееся с языка «ты и твой фюрер», просто обиделся. Теперь она нескоро опять его обидит, нескоро опять начнет с ним разговаривать. Сегодня они ни слова друг другу не сказали, даже не поздоровались.
Отставной советник апелляционного суда Фромм еще бодрствует, как всегда по ночам. Мелким угловатым почерком пишет письмо, обращение гласит: «Глубокоуважаемый господин имперский прокурор…»
Под настольной лампой его ждет открытый Плутарх.
Глава 13
Победный танец в «Элизиуме»
В этот пятничный вечер танцзал «Элизиума», большого дансинга на севере Берлина, являл собою зрелище, которое не могло не радовать глаз любого нормального немца: мундиры, сплошь мундиры. И не столько вермахт, чей серый или зеленый служили насыщенным фоном этой красочной картине, в куда большей степени яркость обеспечивали мундиры партии и ее подразделений — коричневые, светло-коричневые, золотисто-коричневые, темно-коричневые и черные. Рядом с коричневыми рубашками штурмовиков виднелись гораздо более светлые рубашки гитлерюгенда, присутствовали здесь и Организация Тодта [12] и Имперская служба труда [13], попадались и почти желтые мундиры вермахтовских зондерфюреров, которых прозвали золотыми фазанами, а также политических руководителей и сотрудников Гражданской обороны. И принарядились таким манером не только мужчины, многие молодые девушки тоже носили форму; Союз немецких девушек, Служба труда, Организация Тодта — все они, казалось, направили сюда своих фюрерш, унтер-фюрерш и рядовых членов.
Немногочисленные штатские совершенно терялись в этой пестрой толчее, такие жалкие среди этих мундиров, ничего не значащие, как ничего не значил для партии штатский народ на улицах и на фабриках. Партия была всем, народ — ничем.
Потому-то девушка и трое молодых парней, сидевшие за столиком на краю зала, не привлекали особого внимания. Все четверо штатские, даже без партийных значков.
Двое — девушка и один из парней — пришли первыми; затем появился второй парень, попросил разрешения сесть за столик, а еще немного погодя — третий, с такой же просьбой. Парочка сделала еще и попытку потанцевать, несмотря на сутолоку. Двое других парней тем временем завели разговор, к которому присоединилась и вернувшаяся пара, разгоряченная и помятая в толчее.
Один из парней, лет тридцати, с высоким лбом и уже заметными залысинами, откинулся на спинку стула и некоторое время молча присматривался к толкотне на танцполе и к соседним столикам. После чего, не глядя на остальных, сказал:
— Неудачное место для встречи. Наш столик чуть ли не единственный, где одни штатские. Мы бросаемся в глаза.
Кавалер девушки, улыбаясь, сказал своей даме, однако слова его предназначались парню с залысинами:
— Напротив, Григоляйт, на нас вовсе не обращают внимания, в упор не видят. Эта публика думает только о том, что так называемая победа над Францией — повод танцевать две недели подряд.