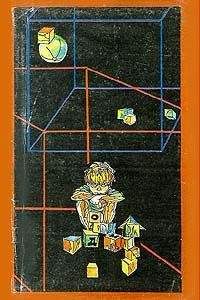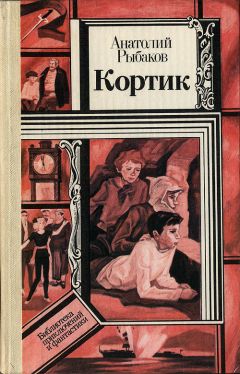Петру Думитриу - Буревестник
— Оставьте производство в покое, — сказал Прециосу. — О производстве мы поговорим в другой раз. Рассуждайте организованно — вы член партии.
— Да, я член партии! — мрачно, словно в этих словах заключалась угроза, откликнулся Николау.
Но секретарь не обратил на него внимания.
— Сейчас мы обсуждаем ваши командирские замашки, ваши и других товарищей из командного состава, — продолжал он. — И пусть товарищ Константин не воображает, что если он спрятался в угол, то я его не вижу… Я слышал, что вы сказали товарищу Лае, — прибавил Прециосу, обращаясь к Константину и громко рассмеялся, словно невесть какой шутке.
— Не годится, товарищи… — снова заговорил он скучным, монотонным голосом. — Нынче страной управляет народ… Это вам не прежние времена, когда офицеры избивали матросов…
— Кто избивает матросов на этом судне?! — воскликнул окончательно выведенный из себя Николау. — Что за вздор! Кто их оскорбляет? На что мы тратим драгоценное время? На что уходят наши часы отдыха? Ведь целые часы уходят на бесполезную болтовню!
— Если вы не допускаете никакой критики по своему адресу, — колко заметил Прециосу, — то по крайней мере разрешите мне говорить… Потом можете, если хотите, попросить слова… Народ, товарищи! Вы на службе у народа! Хотите вы или нет, вы должны служить народу! Иначе нельзя! А прежние командирские замашки пора оставить! Учитесь, товарищ помощник капитана, поднимайте свой уровень. Учитесь работать с людьми, воспитывать их, а не орать на них, как при буржуазном режиме… Я вижу, что критика совершенно на вас не действует, товарищи. Вы не поддаетесь критике, но мы терпеливы, товарищи, и будем вас критиковать, пока вас наша критика не проймет…
Николау сидел, как на горячих углях, то и дело утирая лоб платком, и ничего не видящими глазами смотрел на переборку. Капитан курил, опустив голову. Прециосу продолжал поучать; он повторялся, возвращался к уже сказанному и говорил, говорил, говорил… В конце каждой фразы Прикоп одобрительно кивал головой.
Продан хмурился и молчал, чувствуя себя здесь чужим. Когда все кончилось, командный состав, холодно простившись, ушел, и они — Продан, Прециосу и Прикоп — остались втроем в тесной кабине; Прециосу потянулся и сказал:
— Ну и отделал же я этих господ!..
— Туды их мать… — выругался Прикоп. — Пускай чувствуют, кто руководящая сила!
— Я вам уже говорил и повторяю снова, — сказал Продан, — так не годится! Партия, брат, нас этому не учит. Неужто ты сам не видишь, что ты доводишь их до белого каления? Зачем ты их зря критикуешь? Критику заслужил только Николау — за свой невоздержанный язык, но не забывай, что он товарищ, каких мало! Ты говорил о работе с людьми. Разве так работают с людьми? Неужто вы думаете, что вы этим приблизили к партии капитана и Константина?
Он сердито смолк. Потом повторил:
— Не годится!
— Если ты с нами не согласен, то никто не запрещает тебе выступить на партийном заседании, — сухо заметил Прециосу.
— И выступлю! — сказал Продан, выходя и хлопая дверью.
— Не очень-то мы тебя испугались, — злобно засмеялся Прециосу, глядя на железную дверь.
Прикоп молчал. Он презирал Прециосу за его неумение владеть собой. Что касается угрозы Продана выступить на партийном собрании, то Прикоп, задав себе вопрос: может ли из этого выйти история или не может, решил, что беспокоиться не о чем. Однако, — подумал он, — в тот вечер надо будет подсесть к Продану и шепнуть: «Не горячись. Прециосу тоже случается ошибаться, по линия у него правильная… Одумайся. Не станешь же ты выступать против партийной линии!» Это заставит Продана усомниться. Нет, беспокоиться не о чем. Ему, Прикопу, ничто не угрожает. На этом судне хозяин — он. Это нигде не значится, официально Прикоп Данилов — простой рулевой. Но все знают, что он хозяин, хотя об этом и не говорят. Да и как это скажешь, как выразишь словами?
Но знать — все знали: парторганизация — это товарищ Прециосу, а товарищ Прециосу во всем слушается товарища Данилова.
Как ни странно, однако даже мысль о том, что он хозяин судна, не доставила ему удовольствия.
XV
Уйдя не простившись, капитан отправился наверх, медленно, как старый, усталый человек, переставляя ноги по железным ступенькам. Миновав одну палубу, потом другую, он вышел на холодный весенний ветер, клонивший к самой воде целые смерчи дыма. Кто-то поднимался вслед за ним — было слышно, как чьи-то ноги отсчитывают ступеньки. Это мог быть Прециосу или Прикоп, видеть которых капитан не имел ни малейшего желания, чувствуя, что на сегодняшний день с него хватит, довольно. Держась за промасленные поручни, он поднялся выше — на спардек. Человек за ним. Капитан чувствовал, что он долго не выдержит — повернется и, схватив своего преследователя за горло, крикнет: «Оставите ли вы меня, наконец, в покое! Что я вам дался! Хватит, кажется, на сегодня!..» Добравшись до спардека, он полез еще выше. Человек не отставал. «Нигде от него нет спасенья… так за мной по пятам и ходит, а я ничего поделать не могу». Он даже начал презирать себя за свое бессилие, за то, что он до сих пор не повернулся и не схватил за горло Прикопа или Прециосу, или того, кто за ним шел, кем бы он ни был. По крайней мере, все было бы кончено: пришлось бы проститься с морем, искать себе место на суше, стать писарем, курьером — чем угодно. Или устроиться штурманом на одном из транспортов, плавающих по всему свету. Нет, он не мог этого сделать. Что-то держало его здесь, на этом судне, где он всецело зависел от Прециосу и Прикопа, которые преследовали его повсюду, даже здесь! Теперь оставался только один трап — последний — к штурвальной рубке. Капитан Хараламб начал по нему подниматься. Топ-топ-топ — звонко раздавались за ним шаги его преследователя. Капитан утер лоб — он вспотел, хотя с моря дул холодный ветер, обещавший дождь или, может быть, даже последний снег. Поднявшись, он вошел в рубку. Она была пуста. Тускло поблескивали в темноте путевой компас и штурвал. На столе с картами виднелись казавшиеся черными неподвижными крабами забытые здесь морские бинокли. В рубке было душно. Капитан прошел на узенький, самый верхний, штурманский мостик. Облокотившись о леерное ограждение, он стал смотреть вниз, на пристань. Там отъезжал грузовик, лебедки больше не работали, начальника рыболовной флотилии уже не было у причалов. Пристань была безлюдной…
Человек, который молча шел по пятам за капитаном, был где-то совсем близко. «Как? — думал Хараламб, — неужто даже здесь нет от них покоя?» Он уже собрался было, ни слова не говоря, пройти мимо него и запереться в своей каюте, как бы душно и жарко там ни было, но в этот момент узнал в преследователе Николау, своего старшего помощника. Толстый, коренастый Николау преспокойно стоял рядом с ним и смотрел на порт, с его яркими электрическими огнями, пеленой дыма и черной, маслянистой водой. Капитан почувствовал последний приступ раздражения: «Почему, черт его побери, не сказать, что это он? Идиот!» Потом сразу успокоился. Николау был хороший человек, с ним можно было стоять рядом, ни слова друг другу не говоря и не чувствуя от этого ни малейшего стеснения. Хорошо, что это он.
— Ну, что скажете? — обратился к нему капитан.
— У них, товарищ капитан, — ответил Николау, внимательно следя за пересекавшим порт черным катером, — намерения хорошие. Но иногда не хватает умения… Происходят ошибки…
Он говорил сконфуженно, не глядя на капитана.
— Вы прекрасно знаете, что это не так, — сказал тот с горечью. — Вы их защищаете, потому что вы член партии и вам за них стыдно…
— Бывают минуты, когда я чувствую, что не выдержу, — продолжал капитан со вздохом, — когда мне хочется наорать на них, ударить их чем-нибудь по голове… и убежать. Уйти с этой столетней развалины, переменить профессию. Или определиться старшим помощником на какой-нибудь транспорт. Вот уже пятнадцать лет, как я командую судном; я теперь согласен поступить штурманом, практикантом по палубе — чем угодно. Судно мне получить трудно — вы сами знаете. На свете больше капитанов, чем кораблей. Да я к тому же и стар. Хотя мне, собственно, ничего не нужно, кроме койки и службы на судне — любой работы, хотя бы окатывать палубу. Мне и это приходилось делать, когда, семнадцати лет, я ушел из дому и стал матросом. Не знал я тогда, понимаете, что в пятьдесят с лишним лет надо мной будут издеваться такие людишки, как эти. Знай я это, я наверное бросился бы вниз головой в море, в ста милях от берега… Но у меня семья, дети, которых я должен кормить, которые связывают меня по рукам и по ногам. Так что волей-неволей приходится тянуть лямку на этой вонючей галоше — до тех пор, пока меня не выгонят отсюда товарищи Прециосу и Данилов. А если выгонят, — я хочу, по крайней мере, чтобы это случилось не но моей вине, — хочу уйти со спокойной совестью, не упрекая себя в том, что я лишаю детей куска хлеба…