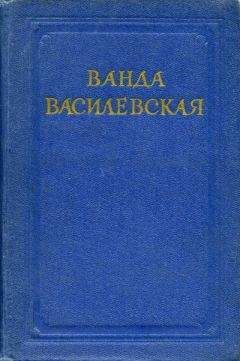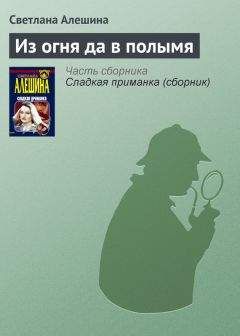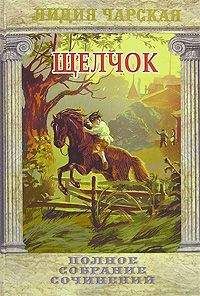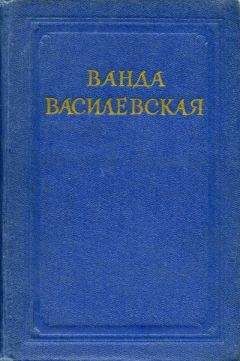Ванда Василевская - Облик дня
— Чуть было не ушел!
— Э-э… Куда ему уйти?..
— А как бы ты думал? Добрался бы до воды — и будь здоров!
— Отсюда-то?
— Еще как!
Ну, а как же, ведь угорь, шутка сказать! Вылезает по ночам на ближние поля, жрет горох. Проглотив крючок удочки, обвивается хвостом вокруг камня, хоть все внутренности у него вырви, а от камня не оторвешь. Один раз так обвился вокруг мужика, что пришлось его пополам перерезать, не то бы задушил. Вот он каков, угорь. Теперь, когда он пойман, можно назвать его и угрем, а не пескарем, как раньше.
— Влазь!
— Пугай!
Над водой какая-то тень.
— Гляди, удит!
— Кто это такой?
— Черт его знает.
— А ну-ка, спроси у него разрешение на ловлю.
Сачки таинственным образом исчезают.
— Эй, разрешение у вас есть?
Человек медленно пятится от воды. Они полукругом, подавшись вперед, наступают на него. Как волки. Окружают.
— Вы сами браконьеры! Еще и разрешение спрашивают! По-лицияя-а!
Отчаянный крик над распростертыми под бледным небом пустынными полями.
— Холера проклятая! Не ори, сукин сын!
Тень поспешно удирает. Прячется среди темных зарослей верб.
— Ну, валяй дальше! Нечего тянуть.
Ночь бледнеет. С небольшой копны сена на прибрежном лугу поднимается заспанный человек.
— А ты тут и спишь?
— А как же. Я там переметы поставил, смотрите не порвите.
— А еще кто из наших здесь?
— Хо-хо! С вечера человек двадцать вверх по течению пошли.
На востоке узкая рыжая полоска. Пора домой.
Теперь на реке ежеминутно попадаются знакомые. Каждые несколько шагов — взмах удочки.
— Ну, как Томек?
— Хорошо!
— Ясек! Скоро домой?
— Эй, Рудек!
— Глядите-ка, и Владека принесло!
Братия скликает друг друга. Те, кто живет в одном районе, на одной улице или в одном доме. Можно подумать, что в эту ночь, в канун воскресенья, все каменщики превратились в рыбаков. Мокрые по шею, в шелестящей от воды одеже, они молчком, украдкой пробираются в это прохладное утро им одним известными дорогами домой. В жестяных ящиках бьются головами угри, на спинах ловцов покачиваются сачки. Пока не рассвело, нужно попрятать в недоступные тайники запрещенные сети, удочки домашней работы, шесты, которыми вспугивают рыбу. Как ничего и не бывало. В понедельник опять на работу — кирпич, известь и цемент. Но в ночь под воскресенье — серебряные от росы луга, серебряный предатель-месяц на небе, серебряная рыбья чешуя. И белое брюхо угря и шорох прибрежных деревьев.
Или кабак. Потому что сегодня получка, завтра ее, быть может, уже не будет. А потом долгие зимние месяцы. И получка переливается пеной через край пивной кружки, сверкает грязной рюмкой, появляется из-за прилавка четвертинкой за злотый и пятнадцать грошей. Плевать на все, раз сегодня есть деньги. И получка обращается в удар кулаком меж глаз или ножом под ребро, в пьяную драку, в ночевку в полицейском участке.
А то — угостить девушку на танцульке, поставить ей все, что она в силах выпить и съесть. Чтобы чувствовала, что не с нищим каким танцует, не с первым встречным, а с каменщиком! Угостить музыкантов, чтобы знали, кому играют! Угостить всякого, у кого только есть глотка, чтобы пить, — пусть знают, как каменщик гуляет. Пока еще что-то звенит в кармане, пока есть что бросить на прилавок.
И так во всем. До конца, до дна! Плевать на жизнь, на этакую собачью жизнь. Ударить ножом врага, пойти на смерть за друга. На смерть всякий охотно пойдет за любое правое дело, а в первую голову, в первую голову за то великое, за святое общее дело.
В быстром течении этой своеобразной жизни Анатоль плавает словно рыба в воде. Ничто здесь не застаивается на месте, не закостеневает, не киснет. Красочная, горячая, внезапно расцветающая жизнь. В дурном и хорошем, в великом и малом — жизнь, пульсирующая быстрыми ударами сердца, неудержимой волной горячей крови. Жизнь, пылающая огнем, взрывающаяся пламенем. Надежная. Своя. Сплотившая их в огромную семью, в рыцарский орден кирки и молота.
Кипящая радостной молодостью жизнь. Жизнь полная, бьющая через край.
Да еще однажды утром, по пути на работу, его глаза встречаются с темными, пугливыми глазами девушки.
Анатоль от всего сердца улыбается темным глазам. Ему отвечает трепет длинных ресниц.
Раз, другой. Потом уже можно приподнять шапку и вместе с кивком темной головки в самое сердце принять внезапно вспыхнувший на щеках румянец.
А теперь можно иной раз и заговорить. Наталка. Наталка и Анатоль. Забавно!
Тихонькая она такая. Худенькая, с виду хрупкая. Но руки сильные, трудовые, пальцы изъедены коричневым табачным соком на фабрике. Руки Анатоля невольно протягиваются, чтобы защитить, помочь, взять ее под свое покровительство.
И так уж остается. Анатоль и Наталка.
Такой с виду цыпленок. Маленький, слабенький. Но тяжкий труд несут на себе девичьи плечи. Вереницу долгих, трудных, суровых дней влекут за собой ноги. Умеют твердо смотреть в лицо жизни пугливые глаза. Умеют упорно, непреклонно сжиматься розовые губы.
Сперва лишь несколько слов на ходу, — ведь оба торопятся.
Потом Анатоль у ворот фабрики всякий раз, когда ему удается поспеть с работы к концу ее смены. Потом то тут, то там, в воскресенье.
Разговаривают. Обо всем. О своей жизни. Рассказывают, что было днем.
И, наконец, также и о том, о его деле.
Она прилежно слушает. Наклоняет к нему темную головку, напряженно стараясь понять каждое слово.
Впрочем, это знакомо и ей. Может, не так точно, не так хорошо, как Анатолю, но знакомо. Ведь она не с луны свалилась. Ее воспитывал сырой подвал и сиротская доля, фабричный склад, заваленный кипами табаку.
— Видишь ли, Наталка, дело обстоит так…
Она поддакивает, кивая темной головкой. Понятно. Так, именно так.
Анатоль улыбается. Как хорошо, что она такая, — иначе на что ему были бы и пугливый взгляд ее глаз, и эта внезапная краска в лице, и песня счастья в шумно бьющемся сердце?
— Вот я поведу тебя, покажу одну вещь.
— Сегодня?
— Нет, нет. Через некоторое время, подожди. Это еще только делается.
А пока можно почитать. Анатоль объясняет. Но Наталка понятлива, хватает на лету, впитывает в себя каждое слово, срывающееся с его губ. Ведь это же Анатоль! Уж раз он что скажет, так оно и есть. Еще бы — Анатоль!
И, наконец, он однажды говорит:
— Наталка, сегодня вечером пойдем.
— Куда?
— Увидишь.
И они идут.
Сперва ничего неожиданного нет. Ведь она уже заходила сюда раз за Анатолем.
Но теперь они поднимаются наверх. Зал полон. Под огнями ламп — смешанный гул голосов. В глубине — зеленые складки занавеса.
— Садись, садись и смотри.
— А ты?
— Мне пора идти, сейчас ты меня увидишь.
— Там?
Зеленые складки слегка колеблются.
— Там, там, только подожди.
Он исчезает где-то в боковых дверях. Впрочем, его уже зовут туда, нетерпеливо, настойчиво.
Наталка сидит в первом ряду. Сперва ей немного неловко, но вскоре она успокаивается. Прямо за ней сидит Флисовская, тоже с папиросной фабрики. А таких, что в шляпках, почти и не видно, — не то что в театре.
Она терпеливо ждет. Зеленые складки занавеса слегка волнуются, но пока ничего не начинается. Интересно, что это будет?
Вдруг удар гонга. Наталка вздрагивает в напряженном ожидании. Зеленые складки уходят в стороны.
На сцене стоит целая толпа. Не переодетые, не загримированные, прямо как были. Она даже слегка разочарована. И Анатоля что-то не видно; впрочем, он, может, потом придет, утешает она себя. Потому что без Анатоля ей как-то не по себе.
В зале совершенно темно. Сцена освещена ярким белым светом. Они стоят там полукругом. Наталка начинает волноваться за них. На сцену устремлено столько глаз… А вдруг что-нибудь не удастся? Но нет, не может быть. Ведь там Анатоль. Она усаживается поудобнее, потому что ведь сейчас начинается.
Во тьму зала мерно, четко льются произносимые хором слова. Словно из одной мощной груди:
Воздвигаем белый дом,
Стоэтажный белый дом…
Наталка слушает. Ведь это об Анатоле. Об Анатоле и о ней. За собой в напряженной тишине зала она слышит дыхание толпы. И даже выпрямляется от гордости. Ведь это об Анатоле.
Вдруг мерный ритм спокойных голосов обрывается, словно прибитый к земле. А над ними светло, вдохновенно, высоко взвивается один голос:
Был один там парень юный
С искрой солнечной в глазах.
Возвышаясь на лесах,
Так вот пел тот парень юный…
Теперь на полшага из темного полукруга толпы выступает Анатоль.
Из темной пропасти зала на него смотрят неясные очертания лиц. Будто призраки. Дыхание сотен губ доносится, как дыхание огромного теплого зверя.