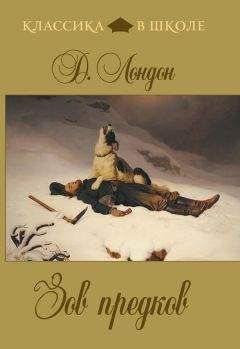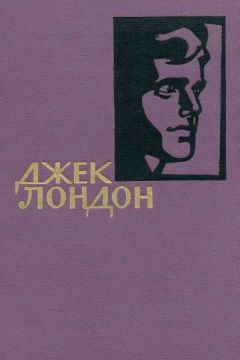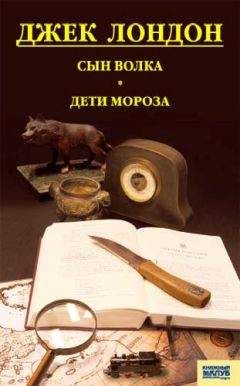Джек Лондон - Рожденная в ночи. Зов предков. Рассказы
— А вот и мой корабль! — объявил Дункан консулу. — Вот спущена шлюпка, и в нее садится капитан Детмар. Если я не ошибаюсь, он едет докладывать вам о нашей гибели.
Шлюпка пристала к белому взморью; капитан Детмар, оставив Лоренцо возиться с двигателем, зашагал по берегу и направился по дорожке, ведущей в консульство.
— Пусть делает свой доклад! — промолвил Дункан. — Мы выйдем в соседнюю комнату и послушаем.
И через полупритворенную дверь супруги слушали капитана Детмара, который со слезами в голосе описывал исчезновение своих хозяев.
— Я перенес парус и пошел назад по тому же самому месту, — закончил он. — Ни следа! Я кричал, кричал, но не получил ответа. Два добрых часа колесил я по этому месту, потом лег в дрейф до утра и весь день напролет ездил взад и вперед, держа двух дозорных наверху мачты. Ужасно! Душа разрывается! Мистер Дункан был чудесный человек, и я никогда больше…
Но он не закончил фразы, ибо в это мгновение его чудесный хозяин двинулся прямо на него, оставив Минни на пороге дверей. Бледное лицо капитана Детмара побелело еще больше.
— Я сделал все, что мог, чтоб подобрать вас, сэр, — начал он.
Бойд Дункан облек свой ответ в термины горстей костяшек — двух горстей, обрушившихся справа и слева на физиономию капитана Детмара. Капитан Детмар отшатнулся, овладел собой и кинулся, размахивая руками, на своего хозяина, но успел в одном — получить удар прямо между глаз. На этот раз капитан Детмар рухнул на пол, увлекши в своем падении пишущую машинку.
— Это не дозволено! — засуетился консул Лингфорд. — Прошу вас, прошу вас, перестаньте!
— Я заплачу за убытки, причиненные конторской мебели, — отвечал Дункан, одновременно отпечатывая горсти костяшек на носу и на глазах Детмара.
Консул Лингфорд прыгал в этой сумятице, как мокрая курица; конторская мебель его шла прахом. Раз ему удалось схватить Дункана за руку, но он в ту же минуту отлетел, задыхаясь, на полдлины комнаты в сторону. В другой раз он обратился с мольбой к Минни:
— Миссис Дункан, прошу вас, пожалуйста, укротите вашего супруга!
Но бледная, дрожавшая Минни решительно мотнула головой и жадно наблюдала схватку.
— Да это безобразие! — кричал консул Лингфорд, метаясь между сталкивающимися телами бойцов. — Это оскорбление правительству, правительству Соединенных Штатов! Предупреждаю вас, это не пройдет даром! О, прошу вас, перестаньте, мистер Дункан! Вы убьете этого человека. Я прошу вас! Прошу вас, прошу…
С грохотом упавшая ваза с алыми цветами гибиска заставила его оцепенеть в безмолвии.
К этому времени капитан Детмар не мог уже подняться на ноги. Он приподнялся на руках и коленях, попытался встать совсем, но смяк окончательно. Дункан потрогал стонущую развалину ногой.
— Он готов! — объявил он. — Я только вернул ему то, чем он угощал многих матросов, да еще почище этого!
— Великий Боже, сэр! — вскричал консул Лингфорд, с ужасом глядя на человека, которого он пригласил на завтрак. Дункан невольно усмехнулся, но взял себя в руки.
— Я прошу извинения, мистер Лингфорд! Боюсь, что я дал себя немножко увлечь своим чувствам…
Консул Лингфорд задыхался и молча ловил воздух руками.
— Немножко, сэр? Немножко? — выдавил он наконец из себя.
— Бойд! — тихонько окликнула Минни из дверей.
Он обернулся.
— Ты — ты моя радость! — проговорила она.
— А теперь, мистер Лингфорд, мое дело с ним кончено, — сказал Дункан. — Что осталось — вручаю вам и закону.
— Это? — с ужасом в голосе спросил консул Лингфорд.
— Это самое! — ответил Бойд Дункан, с сожалением осматривая свои побитые костяшки.
Война
Это был молодой человек, не старше двадцати четырех-двадцати пяти лет; он сидел бы на своем коне с беззаботной грацией юности, если бы не эта нервная настороженность и напряжение. Его черные глаза бегали по сторонам, ловя каждое движение ветвей и сучьев, по которым прыгали мелкие пташки; он тщательно осматривал изменчивые перспективы деревьев и кустов, то и дело возвращаясь к низкой, густой заросли по сторонам дороги. Он чутко прислушивался, хотя кругом была полная тишь, если не считать отдаленного буханья пушек, доносившегося откуда-то с запада. Он слышал его уже не первый час, и только прекращение этого звука пробудило бы в нем тревогу. Теперь же он занят был более важным делом. Через луку его седла был перекинут карабин.
Нервы его были так напряжены, что внезапно вспорхнувший под самым носом коня выводок куропаток страшно испугал седока и он машинально натянул поводья и вскинул карабин к плечу. Впрочем, тотчас же опомнившись, он конфузливо улыбнулся и поехал дальше. Он до того весь ушел в предстоящее ему дело, что не отирал пота, едко щипавшего глаза, катившегося беспрепятственно по носу и капавшего на седло. Даже лента его кавалерийской шляпы промокла от пота. Гнедая лошадь под ним тоже была вся в поту. Стоял полдень жаркого безветренного дня. Даже птицы и белки не решались показаться на солнце и прятались в тенистых местах под защиту деревьев.
И человек, и лошадь были покрыты листьями и желтой пыльцой цветов; на открытое место они выезжали лишь в случае крайней необходимости. Они пробирались сквозь кусты и деревья; и если приходилось пересечь поляну или высохший участок горного пастбища, всадник немедленно останавливался и хорошенько осматривался. Он подвигался к северу, хотя и очень извилистой дорогой, и, как видно, с севера грозила ему опасность, навстречу которой он направлялся. Он не был трусом, но, обладая мужеством обыкновенного цивилизованного человека, искал не смерти, а жизни.
Поднимаясь по узкой пастушьей тропе на невысокий бугор, он попал в такую густую чащу кустов, что ему пришлось спешиться и повести лошадь под уздцы. Но когда тропинка повернула на запад, он сошел с нее и снова направился к северу по вершине поросшего дубняком горного хребта. Этот горный хребет кончался крутым спуском, настолько крутым, что всаднику пришлось спускаться зигзагами, скользя и спотыкаясь, среди мертвой листвы и спутанных лоз и не отрывая взгляда от лошади, которая ежеминутно могла свалиться на него. Пот катился с его лица, едкая цветочная пыльца, наполнявшая его рот и ноздри, усиливала жажду. Как ни старался он, спуск все-таки не был бесшумным, и он часто останавливался, задыхаясь в сухом зное и прислушиваясь к малейшему шуму снизу.
Внизу он очутился на равнине, так густо заросшей лесом, что он не мог определить ее размеров. Характер леса здесь был иной, и он мог сесть на лошадь. Вместо искривленных горных дубов здесь из жирной сырой земли поднимались высокие, прямые деревья с толстыми стволами. Там и сям попадались чащи, которые легко было объезжать, как и встречавшиеся поляны — былые пастбища скота до войны. Теперь, находясь в долине, он двигался быстрее — и через полчаса остановился у старого забора на краю лужайки. Открытый характер местности не понравился ему, но надо было пересечь ее, чтобы добраться до рощи у реки. По открытому месту ехать пришлось бы всего с четверть мили, но самая мысль об этом была неприятна. Один карабин, два десятка, тысяча карабинов могли таиться в этой чаще у реки!
Дважды пытался он выехать — и оба раза останавливался. Его пугало собственное одиночество. Пульс войны, бившийся на западе, означал тысячи сражающихся: здесь же была тишина, да одинокий всадник, да еще, пожалуй, смертоносные пули, таящиеся в засаде. Но ведь он должен был выполнить задание — найти то, чего боялся искать! Он должен ехать все дальше и дальше, пока где-нибудь, когда-нибудь не встретит другого человека или нескольких людей из неприятельского лагеря, посланных, как и он, на разведку, чтобы сообщить, как и он, о соприкосновении с неприятелем…
Он передумал, вернулся в лес и вскоре опять выглянул. Теперь он разглядел в середине поляны небольшую ферму. В ней не было признаков жизни. Дым не вился из трубы, не было слышно гама домашней птицы. Кухонная дверь была настежь раскрыта, и он так долго, не отрываясь, смотрел в зияющую раму, что казалось, будто сейчас должна выйти жена фермера.
Он слизнул цветочную пыльцу и дорожную пыль с сухих губ и, закоченев телом и душой, выехал на солнечный припек. Нигде никакого движения! Он проехал мимо дома и приблизился к чаще высоких деревьев на берегу реки. Одна неотвязная мысль сводила его с ума — мысль о пуле, молниеносно пронизывающей тело. Эта мысль делала его каким-то слабым и беззащитным, и он все ниже склонялся к своем седлу.
Привязав лошадь у опушки леса, он пешком прошел расстояние футов в сто и приблизился к реке, шириной не более двадцати футов. Течения не было заметно; прохладная вода манила измученного жаждой путника. Но он ждал, спрятавшись за стеной деревьев и не отрывая глаз от чащи на противоположном берегу. Чтобы не так трудно было ждать, он сел, положив карабин на колени. Минута проходила за минутой, понемногу его напряжение слабело. Наконец он решил, что никакой опасности нет; но только он собрался раздвинуть кусты и наклониться к воде, как движение в кустах на противоположном берегу заставило его насторожиться. Это могла быть и птица. Но он ждал. Опять кусты задвигались, и вдруг — так внезапно, что он чуть не вскрикнул, — кусты раздвинулись, и из них выглянуло лицо! Не бритое несколько недель, обросшее бородой имбирного цвета. Голубые широко расставленные глаза были окружены морщинками смеха, странно противоречившими усталому и тревожному выражению всего лица.