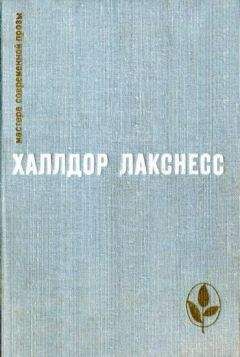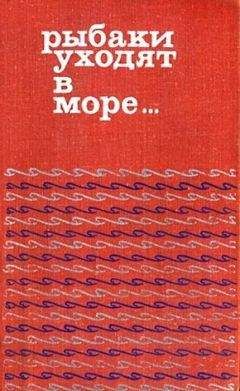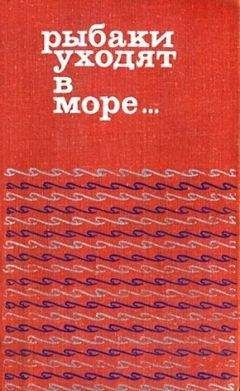Халлдор Лакснесс - Салка Валка
Ведь я не знаю ничего прекраснее этой мелодии, возносящейся к обители моего небесного отца. Он восседает на своем священном троне над этим жестоким и бурным миром, миром, в котором я провела не одну бессонную ночь, сидя на берегу бушующего моря. Я проливала слезы над своим несчастьем и грехом, как проливали их, должно быть, до меня много, много сотен бедных и маленьких людей. И никому не сосчитать всех слез, пролитых в море, только он один может отделить эти слезы от моря.
Глава 13
Как-то весенним вечером Салка Валка возвращалась из поселка домой. На ней были коричневые брюки И серая фуфайка. На дороге ей повстречался Стейнтор.
— Что это тебе взбрело в голову так вырядиться? — спросил он, имея в виду брюки. — Если тебе нужно платье, почему ты не пришла ко мне? Ты бы получила столько красивых платьев, сколько твоей душе угодно и когда тебе угодно.
— Что ты болтаешь! Ты бы лучше раскошелился и купил платье моей маме. Ты же, осел, разыгрываешь из себя ее жениха.
И девочка хотела пройти мимо.
— Послушай, ты что, не можешь постоять со мной минуту, долговязая? Я только собрался поговорить с тобой, а ты убегаешь, точно тебе соли на хвост насыпали. Раз я обручен с твоей матерью, то ты мне теперь доводишься падчерицей.
— Нет уж, спасибо, никакая я тебе не падчерица. Ты бы постыдился обращаться так с моей мамой. Она днем и ночью молит бога, чтобы ты не был негодяем и подлецом. Это по твоей вине она теперь такая несчастная. А в чем она ходит? У нее нет ни одного приличного платья, кроме того цветастого, что она купила на мои деньги. А ты пьянствуешь и бегаешь за другими да даришь им дорогие наряды. Ты такой противный, что я с удовольствием снесла бы тебе голову.
— Ну и язычок у этой девчонки, вы только послушайте ее!
— Ты другого не заслуживаешь.
— Такое, как у тебя, лицо можно увидеть в зверинце там, за границей.
— Придержи язык.
— Твое лицо соленое, оно пахнет морскими водорослями. Я люблю его.
— Заткнись.
— Но если Йохан Богесен мог дать тебе две кроны, я могу позволить себе дать четыре.
Минуту-две девочка стояла молча перед ним. Ее взгляд только перебегал с монет у него в руке на его глаза. Быть может, эти неистовые глаза выражали какую-то мольбу, какое-то искание, близкое и понятное ей, одинокому, заброшенному существу? Страх перед коварством моря, инстинктивно пробудившийся в душе ребенка, и ненависть ко всему, что лишает уверенности и спокойствия, сейчас, казалось, совсем исчезли. Девочка проворно выхватила обе монеты из его руки. Не сказав ни слова благодарности, она крепко зажала деньги в кулаке и спрятала руку за спину.
— Если бы мне довелось очутиться на чужбине и много лет прожить среди людей, которые говорят на чужом языке и которые не имеют ни малейшего представления о том, кто я, какие горы возвышаются над этим фьордом, или, предположим, я попал бы в бешеный шторм где-нибудь в океане, на другом конце света, или очутился бы в городе, где у людей по-иному приделаны ноги, чем у нас, и глаза глубоко сидят в глазницах, а кожа темная, как у чертей, все равно с величайшей радостью я отдал бы все на свете, только бы узнать, о чем ты думала или что ты чувствовала прошлой зимой, сидя на кухне в Марарбуде, когда я смотрел на тебя. У тебя такое выразительное лицо. Мне невыносимо больно, что в твоей памяти я останусь только пропащим пьяницей, совратившим твою мать.
— Ты сказал маме, что собираешься уезжать? — спросила Салка Валка.
— Я никому не говорил, что собираюсь уезжать. Насколько мне помнится, я и тебе не говорил об этом. Да я и не думаю уезжать. Я только сказал, что если бы уехал и очутился на другом конце света, если бы мне довелось бороздить моря в шторм и непогоду, если бы мне пришлось сразиться с целым вооруженным отрядом в другой части света — понимаешь, — передо мной всегда был бы только один образ, одно лицо во всем мире. Иногда один-единственный образ живет в душе человека и властвует над ним всю жизнь, до самой смерти.
Вся трагичность положения заключалась в том, что он обращался к ошеломленному ребенку, никогда даже в мыслях не представлявшему себя взрослой женщиной. Девочка была охвачена ужасом, она позабыла даже про ненависть. У нее так сильно билось сердце, что она слышала, как его удары эхом отдаются в горах, она побледнела, колени дрожали, казалось, ноги вот-вот откажутся ей служить. Но только несколько мгновений девочка стояла перед ним, дрожащая, с глазами, полными страха и ужаса. Через секунду она уже со всех ног мчалась к дому.
Может быть, она спешила к матери, чтобы на ее груди выплакать свой страх, как это делают испугавшиеся дети?
Нет, она не побежала в дом. Обогнув его, она влетела в хлев, захлопнула за собой дверь да еще намотала шнурок на гвоздь. Корова и девочка не были задушевными друзьями, они не привыкли поддерживать друг друга в беде. Поэтому Салка осторожно обошла корову и, добравшись до сена, бросилась на него. Должно быть, она пролежала здесь очень долго. Мало-помалу к ней вновь возвратились силы, сердце перестало колотиться. Девочка раскрыла вспотевшую руку и с удивлением уставилась на монеты. Вероятно, на какой-то миг она даже думала, что это сон, — до сегодняшнего дня ей не приходилось наяву держать такие деньги. Кто-то постучался в дверь хлева. Это была мать, она попросила впустить ее.
— Ты что здесь делаешь, Сальвор?
— Ничего, — ответила девочка.
— Что хотел от тебя Стейнтор? Я видела вас из окна, он что-то дал тебе.
— Он дал мне две монетки, — ответила девочка неуверенно, краснея и смущаясь, будто ее застали на месте преступления. Она почувствовала, что, приняв эти деньги, она стала соперницей матери.
— Как тебе не стыдно, негодница, принимать деньги от мужчины! И от кого? От жениха твоей матери! Постыдилась бы. А ну, давай их сейчас же!
В эту минуту Салка Валка уже не питала ненависти к Стейнтору, нет, она ненавидела эту толстую женщину с гнилыми зубами, которая видела в ней, еще подростке, только свою соперницу и пускала в ход материнскую власть, чтобы унизить и оскорбить ее.
— Это мои деньги.
— Неправда, ты не имеешь права на них. Мужчина может легко угодить в исправительный дом, если он склоняет девочек брать от него деньги. Отдай сейчас же деньги, а не то я тебе задам взбучку.
— Ни за что! — закричала девочка. — Только попробуй подойди ко мне.
Мгновение женщина в гневе смотрела на свою дочь. Каждый мускул на лице дрожал от злобы, но потом черты лица обмякли и две большие слезы скатились по щекам. Женщина разразилась судорожными рыданиями. Она обратилась с пылкой мольбой к Иисусу. Девочка убежала.
На следующий день вечером, когда все семейство находилось в сборе за столом, за дверью послышались чей-то кашель, пыхтенье, вздохи, словно приближалась целая пароходная команда. Оказалось, это был всего-навсего пастор. Он вошел в кухню в длинном пальто, с шерстяным шарфом на шее, почтительно поздоровался со всеми. Голос его, казалось, шел из какой-то пустоты в голове. Никто так, как он, не умел показать, какая ответственность возложена па его плечи — шуточное ли дело около сорока лет заботиться о спасении душ в таком жалком приходе, да еще вдобавок присматривать за северной частью Баркарфьорда, пробираясь туда через горы и глухие ущелья.
— Э-э-э, — протянул он.
Старая Стейнун поспешила пригласить благословенного слугу господа бога в комнату, где вязали сети, чтобы усадить почтенного гостя в единственное приличное кресло в доме, принадлежащее старику Эйольфуру.
— Сердечно благодарю, сердечно благодарю, дорогая Стейнун. Но у нас, служителей бога, нет времени рассиживаться. О, дорогой Эйольфур, добрый вечер. Могу я предложить тебе понюшку табаку в благословенной темноте, посланной тебе господом нашим? Да… О чем же я хотел поговорить? А, вот и старина Стейнтор. Прошел уж целый век с тех пор, как ты ходил в школу, — счастливая пора! Я не хочу сказать, что ты всегда был прилежен. Ты мог бы успевать лучше, у вас в роду все способные и преданные своему краю. Твой прадед Эйольфур из Стурадаля без труда подымал двухсотлитровую бочку, когда ему было шесть десятков, и сочинял саги в стихах. Вот так-то. В ту пору на земле жили крепкие и верующие в бога мужчины. Как говорит апостол, э-э-э… Ну, перейдем к другому. Да, Сигурлина Йоунсдоттир. Как я уже говорил вам, я плохо знаю родословные жителей Севера. О чем это вы, бишь, говорили вчера, когда заглянули ко мне? Армия спасения? Да, это одна из тех сект, о которых говорил апостол: посмотрите, они щекочут уши глупцов человеческими мыслями и выдумками. Наша церковь, как говорил я вам, самая святая, епископ Йоун Видалин называет ее своей возлюбленной невестой, а Хадльгримур Пьетурссон где-то говорил о ней следующее: «Жертвую своему родному и чистому языку от всяких источников ясных и чистых». Э-э-э, как говорит апостол: они набрасываются на тебя, как волки. Наша евангелистская лютеранская церковь — это церковь, которой мы обязаны быть верны при жизни и после смерти, и когда мы обращаемся с молитвой к богу, то не к чему играть на мандолинах и бить в барабаны. Да. Я знаю, мои слова западут вам в сердце, и вы, оставшись одни, задумаетесь над ними. Что же я собирался сказать, Стейнтор, друг мой? Да, вспомнил. Могли бы мы поговорить с тобой с глазу на глаз?