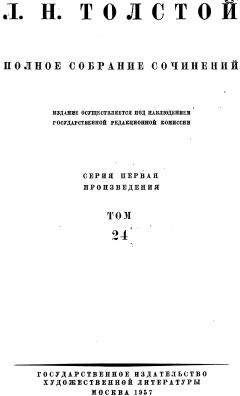Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 2. Отрочество. Юность
Когда я пришел обедать, я застал в столовой только Мими, Катеньку, Любочку и St.-Jérôme’a; папа не был дома, а Володя готовился к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе. Вообще это последнее время большей частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никто не уважали, и обед много потерял своей прелести. Обед уже не был, как при maman или бабушке, каким-то обрядом, соединяющим в известный час всё семейство и разделяющим день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходить ко второму блюду, пить вино в стаканах (чему подавал пример сам St.-Jérôme), разваливаться на стуле, вставать не дообедав и тому подобные вольности. С тех пор обед перестал быть, как прежде, ежедневным семейным радостным торжеством. То ли дело бывало в Петровском, когда в два часа все, умытые, одетые к обеду, сидят в гостиной и, весело разговаривая, ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы в официантской, чтоб бить два, с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом, тихими шагами входит Фока. «Кушанье готово!» провозглашает он громким, протяжным голосом, и все с веселыми, довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади, шумя крахмаленными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идут в столовую и, негромко переговариваясь, рассаживаются на известные места. Или, то ли дело бывало в Москве, когда все, тихо переговариваясь, стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврило уже прошел доложить, что кушанье поставлено, — вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка в чепце, с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь (смотря по состоянию здоровья), выплывает из своей комнаты. Гаврило бросается к ее креслу, стулья шумят, и, чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод — предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой и радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий.
Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду.
Болтовня Мими, St.-Jérôme’a и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжен Корнаковых платья с воланами и т. д., — болтовня их, прежде внушавшая мне искренное презрение, которое я, особенно в отношении Любочки и Катеньки не старался скрывать, не вывела меня из моего нового добродетельного расположения духа. Я был необыкновенно кроток; улыбаясь, слушал их особенно ласково, почтительно просил передать мне квасу и согласился с St.-Jérôme’ом, поправившим меня в фразе, которую я сказал за обедом, говоря, что красивее говорить je puis[39], чем je peux.[40] Должен однако сознаться, что мне было несколько неприятно то, что никто не обратил особенного внимания на мою кротость и добродетель. Любочка показала мне после обеда бумажку, на которой она записала все свои грехи; я нашел, что это очень хорошо, но что еще лучше в душе своей записать все свои грехи, и что «всё это не то».
— Отчего же не то? — спросила Любочка.
— Ну, да и это хорошо; ты меня не поймешь. — И я пошел к себе наверх, сказав St.-Jérôme’y, иду заниматься, но собственно с тем, чтобы до исповеди, до которой оставалось часа полтора, написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать.
ГЛАВА V.
ПРАВИЛА.
Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиневать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, — лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиневал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила Жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила Жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучался, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие, Зачем всё так прекрасно, ясно у меня в душе, и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что̀ думаю?...
— Духовник приехали, пожалуйте вниз правила слушать, — пришел доложить Николай.
Я спрятал тетрадь в стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папа в одно время со мною вошел из другой двери. Духовник, седой монах, с строгим старческим лицом, благословил папа. Папа поцаловал его небольшую, широкую, сухую руку; я сделал то же.
— Позовите Вольдемара, — сказал папа. — Где он? Или нет, ведь он в университете говеет.
— Он занимается с князем, — сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела от чего-то, сморщилась, притворясь, что ей что-то больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку.
— Что, еще новый грех сделала? — спросил я.
— Нет, ничего так, — отвечала она, краснея.
В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей.
— Вот, тебе всё искушение, — сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке
Я не мог понять, что делалось с сестрой: она была сконфужена так, что слезы выступили у нее на глаза, и что смущение ее, дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее.
— Вот видно, что ты иностранка (ничего не могло быть обиднее для Катеньки названия иностранки, с этой-то целью и употребила его Любочка), — перед этаким таинством, — продолжала она с важностью в голосе, — и ты меня нарочно расстроиваешь.... ты бы должна понимать.... это совсем не шутка....
— Знаешь, Николенька, что она написала? — сказала Катенька, разобиженная названием иностранки; — она написала....
— Не ожидала я, чтоб ты была такая злая, — сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя от нас: — в такую минуту, и нарочно, целый век, всё вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.
ГЛАВА VI.
ИСПОВЕДЬ.
С этими и подобными рассеянными размышлениями я вернулся в диванную, когда все собрались туда, и духовник, встав, приготовился читать молитву перед исповедью. Но как только, посреди общего молчания, раздался выразительный, строгий голос монаха, читавшего молитву, и особенно когда произнес к нам слова: откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится перед Богом, а ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь, — ко мне возвратилось чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве. Я даже находил наслаждение в сознании этого состояния и старался удержать его, останавливая все мысли, которые мне приходили в голову, и усиливаясь чего-то бояться.
Первый прошел исповедоваться папа. Он очень долго пробыл в бабушкиной комнате, и во всё это время мы все в диванной молчали или шопотом переговаривались о том, кто пойдет прежде. Наконец, опять из двери послышался голос монаха, читавшего молитву, и шаги папа. Дверь скрипнула, и он вышел оттуда, по своей привычке покашливая, подергивая плечом и не глядя ни на кого из нас.
— Ну, теперь ты ступай, Люба, да смотри всё скажи. Ты ведь у меня большая грешница, — весело сказал папа, щипнув ее за щеку.
Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала записочку из фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая удара сверху, прошла в дверь. Она пробыла там недолго, но, выходя оттуда, у нее плечи подергивались от всхлипываний.
Наконец, после хорошенькой Катеньки, которая, улыбаясь, вышла из двери, настал и мой черед. Я с тем же тупым страхом и желанием умышленно всё больше и больше возбуждать в себе этот страх вошел в полуосвещенную комнату. Духовник стоял перед налоем и медленно обратил ко мне свое лицо.
Я пробыл не более пяти минут в бабушкиной комнате, но вышел оттуда счастливым и, по моему тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком. Несмотря на то, что меня неприятно поражала вся старая обстановка жизни, те же комнаты, те же мебели, та же моя фигура (мне бы хотелось, чтоб всё внешнее изменилось так же, как, мне казалось, я сам изменился внутренно), — несмотря на это, я пробыл в этом отрадном настроении духа до самого того времени, как лег в постель.