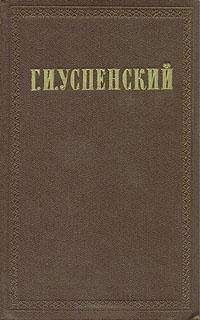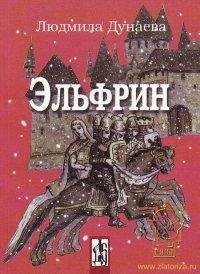Федор Решетников - Между людьми
- Даром что я нигде не обучался, а тоже ставлю им шпильки. Уж больно я солон им: как, говорят, такая бестия - вон что пишет? Белятся, канальи. Вон тоже есть чиновничишки-литераторы: начнут с конца, да и кончат началом; так те в хорошие дома вхожи, потому что они дворяне, а я ничто, по их мнению, выхожу. Тоже печатать посылают. Вон хоть, по примеру, Гаврилов в "Петербургских ведомостях" статью об улучшении нашей промышленности напечатал, да такую дрянь, что черт знает что! в свою пользу так и норовит пригнуть… Писали мне, что ему за эту статью прислали пятьдесят рублей, тогда как она и копейки не стоит, да и он, знаете, тысячами ворочает. Меня в то время не было. Приезжаю я сюда, - здесь по всему городу только и новостей, что Гаврилов статью напечатал. "Что, - говорят мне. - Гаврилов-то каков! у Гаврилова протекция есть…" Ну, вот я и накатал опровержение, просто беда…
- А за это ничего? Не посадят?
- За что?.. - Ну, и послал я в "Северную пчелу"; ждал месяц, ждал два. Написали: нельзя принять. Я письмо туда, прошу: назад, черти, пришлите! Денег послал. Возвратили. Значит, брезгуют, что я не чиновник.
- То-то ныне времена-то скверные; каждый так и норовит напакостить другому.
- Это так. Вот меня и подергивает обличить это.
- Ну уж, это тоже загвоздка!
- Ничего. Лишь бы только не мешали мне.
- Это главное… Ну, так у вас как теперь?.. Вы печатаете где-нибудь?
- Теперь меня три редакции приглашали печатать, самые лучшие: "Северная пчела", "Современник" и "Отечественные записки".
- Что же там, как?
- Там можно все такое забористое писать, и платят там хорошо.
- А вы через кого деньги получаете?
- Мне высылают через одного здешнего купца… Так то неловко… Да я и посылаю больше не по почте, и своей фамилии не подписываю.
- А! боитесь, значит… Какой хитрец! Литератор захохотал.
- Ужо я принесу вам свою печатную повесть.
- Хорошо. Я никогда не читаю книжек, не охотник, а вашу прочту.
- Моя - маленькая, веселая: живот надорвете от смеху и юмору… Эффекты какие, виды; чувства сколько!..
"Ишь ты - какой храбрый! Не врешь, так правда",- подумал я. А тот то и дело хвалит себя. Дяде он, по-видимому, надоел: дядя не любил хвастливых людей, тем более таких, которые не живут в ладу с людьми. Сочинителей он считал за шарлатанов, которые на службу не ходят, а пишут про себя и куда-то посылают. Дядя решительно не понимал, за что этот литератор получает деньги. Тот говорил, что за то, что материалы доставляет. Дядя обругал редакцию и спросил: а им на что материалы?.. - Печатать, сказал тот. Дядя понял, но спросил: верно, они богаты там? Литератор растолковал ему, что редакции издают книжки на счет подписчиков и оставшуюся сумму от расходов за печатание делят с сотрудниками, и что редакторы-издатели поэтому очень богатые люди. Дядя удивился, слушал, по-видимому, литератора с удовольствием, но у него часто вырывались слова: я вас хотел… Но литератор не давал договорить дяде и ораторствовал о своих деяниях очень горячо. Наконец-таки дядя сказал:
- Я вас хотел попросить насчет моего парнишки…
- У вас разве сын есть?
- Нет, племянник, в уездном суде служит.
- Большой?
- Да вот уж двадцатый год пошел.
- Велико ли жалованье получает? Начался разговор о моей службе; оба ругали суд, судью и служащих судейских; литератор хотел видеть меня. - Он где у вас теперь?
- Не знаю. А он с большими способностями… Сам что-то пишет…
- А! что же он пишет, стихи?
- Не знаю… Петинька, что ты пишешь? - вскричал дядя.
- Ничего, - сказал я.
Лицо у меня при этих словах покраснело; я озлился на дядю, не знал, сказать ли, что я пишу; но мне очень хотелось спуститься с полатей и показать ему драму.
- Дурак! тебя спрашивают! - закричал дядя.
- Да я так, ничего… Я драму пишу.
- О, нынче трудно писать драмы. Мечта одна… Я послал одну драму, пропала в редакции.
- Вот я хотел попросить вас, чтобы вы прочитали его сочинение, а потом похлопотали бы о деньгах.
- Хорошо, если время будет, похлопочу. Знаете, тут работы много.
По уходе этого литератора дядя обругал его плутом. "Всю бутылку, шельма, выпил, а как заикнулся за парня заступиться - и домой пошел. Сквалыга, право…" Через неделю этот литератор был у дяди и просил его отправить страховое письмо в какую-то редакцию даром, потому-де, что у него теперь нет ни копейки денег, и помимо почтмейстера, потому что почтмейстер, пожалуй, прочитает его статью и разболтает в городе. Дядя сказал, что он письмо, пожалуй, отправит, но у него, впрочем, нет казенной печати, да он и боится отправить письмо, чтобы не нажить себе беды. Литератор остался недоволен этим. Через несколько времени кто-то сказал дяде, что литератор Николаев собирается описать в газете почтмейстера, помощника с племянником за их-де тупоумие. Дядя озлился, обругал Николаева, меня проклял и обозвал как-то всякие книжки и всех сочинителей. С этих пор на мои занятия он со злостью смотрел; один раз даже оплеуху мне засветил, и я писал секретно, когда не было дома дяди и тетки, или лежа с карандашом на полатях.
Развитие мое плохо подвигалось. В суде я только переписывал очень скоро бессмысленные бумаги, в которых решительно не понимал: к чему они и для чего такая формальность бестолковая? Дела мне не давали читать, потому что меня считали недостойным этой чести; читал я законы, но их мудрое наречие плохо понимал: читаешь какую-нибудь статью, не понимаешь; а если и поймешь, так забудешь, где ее найти, - так они отбивают охоту от чтения. Но все-таки я понял в суде очень много, даже больше, чем другие служащие, прослужившие в суде два года. Я, например, научился составлять бумаги: отношения, указы, донесения и рапорты, и форма их изложения казалась мне бестолковою и пустою; по одной бумаге я следил за ходом дела; в копиях с решений я видел целое короткое дело и представлял себе положение обвиняемых людей в таком виде, что они не виноваты. Зная очень хорошо тех людей, которые сочиняли проекты решений, тех людей, с которыми я служил, - я думал, что они пишут решения не так, как должно: я сравнивал их с хвастливым литератором Николаевым, который, по моим понятиям, писал не дело, а фантазии. Но сочинять решения мне казалось довольно трудным и тяжелым делом: я думал, что я в решении имею дело с людьми; содержание дела казалось мне неполным; мне хотелось самому поговорить с обвиняемым: как было дело? - а там уже писать проект решении, не опираясь на показания и разные бумаги, составляющие дело. Кроме этого, мне страшно показалось решать участь человека. Я понимал теперь, что я служу в таком месте, где решаются участи людей, откуда человек выходит запятнанный позором на всю жизнь или теряет все свое достояние. Вот я и стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал различные копии, реестры и все то, что попадалось мне на глаза. Когда я был дежурным, то рылся везде, где не было заперто, и узнал очень многое. Страшная небрежность и хаос так-таки и царили тогда в нашем суде: бумаги и дела разбросаны так, что их или не скоро отыщешь, или совсем не найдешь; многие дела вовсе не запирались, а оставлялись служащими на окнах, когда они уходили домой; все делалось так, как кому захочется, делалось машинно, принужденно; так и казалось, что служащие или вовсе не знают своего дела, или пишут для денег целый месяц, целый год и целую жизнь, - пишут и сидят в суде для должностей, или для чинов, или для пенсии, или только из-за куска хлеба… От них я ничего не мог приобресть хорошего. Соберутся они рано, поздороваются, обругают друг друга, расскажут какую-нибудь новость или что-нибудь интересное для них, например похождение кого-нибудь в открытые дома, как кто-нибудь словил на бульваре девицу и обманул ее, или как кто-нибудь из них у какой-то Машки разбил стекла в окне, выказывая свою удальи храбрость. Не участвующие в этих разговорах, люди большею частью чиновные и заваленные работой, перемолвливались о том, сколько-то им дадут за этот месяц жалованья, когда-то будет ревизор и губернатор, - и утешались тем, что судья и заседатели получили выговор. Члены рассуждали только о картах и о городских скандалах да кричали на служащих. Служащие ничего не читали хорошего, да им и некогда, и нечего было читать, разве кроме сказок и смешного. В суде хотя и получались губернские и сенатские ведомости, но там читались только распоряжения правительства и начальства, указы, производства и объявления.
Через год меня сделали столоначальником горнозаводского стола, и я крепко принялся за изучение дел. Дел было немного, и я один справлялся со всем, что у меня было в шкафу. Больше меня занимало сначала то, что у меняв кармане ключ от шкафа, а в этом шкафе дела, которые вверены мне для хранения, и в этих делах заключаются судьбы, счастье и горе нескольких людей. Дела в моем столе были: о краже горнозаводского имущества, казенного и частного, о спорных лесных дачах, о лесных порубках, об уничтожении межевых знаков- и спорные дела об имениях мастеровых. Многие из этих дел лежали по пяти и десяти лет, немногие решались скоро или отсылались к заводским исправникам для переисследования. Я тотчас принялся за лежалые дела, стал читать их и решительно не понимал: кто прав, кто виноват и что делать? По своему соображению я писал доклады, нес дела в присутствие, член откладывал читать до другого разу. Мои доклады оказались никуда не годными; член сказал мне, что я не знаю дела и должен спрашивать своего предместника; тот мне и указывал, что делать, или говорил: право, не знаю; спросите горного члена. - Так как я был один в столе, то мне, при всем моем старании, никак не удавалось читать большие дела, да если я и читал, так не знал, что тут нужно делать. Справившись в законе, найдешь что-то подходящее к этому делу; прочитаешь в законе дальше - другие статьи другое говорят… и думаешь, хлопаешь глазами; думаешь: как? что же делать-то? Так долго сидишь, в жар тебя бросит, отупеешь и бросишь дело в шкаф… А черт с ним! скажешь: в другой раз хорошенько займусь… Через месяц займешься, и опять то же самое. И досадно мне, что у меня лежат такие старые и тяжелые дела, досадно, что я понять содержание их не могу, зачем пишут так непонятно, досадно, что другие столоначальники в один день прочитают дело и на другой напишут по этому делу проект решения.