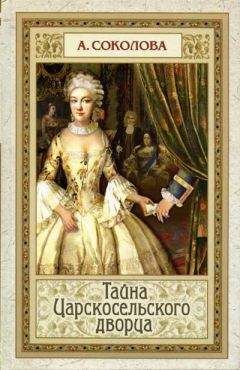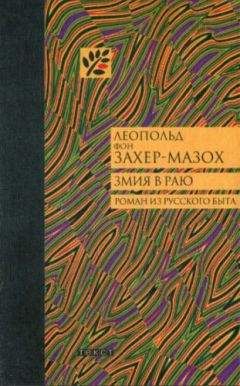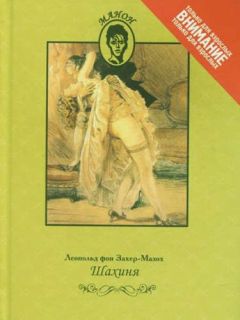Валентин Катаев - Юношеский роман
Я был всего лишь серой порцией, и это печально.
Мой чемодан, набитый сахаром, папиросами, печеньем «эйнем» и множеством всякой домашней чепухи, по мнению тети и папы, необходимой для фронтовой жизни, скоро заметно отощал, сахар съеден, папиросы выкурены, глицериновое мыло смылилось, бумага исписалась.
Теперь я зависел исключительно от солдатского пайка и от посылок из дому. Паек был хороший, артиллерийский, но сахара никогда не хватало. Дома я привык потреблять много сахара, бросал в стакан чая по два или три куска, то есть по солдатским понятиям пил чай внакладку (неслыханная роскошь), так что за один день выходило кусков пятнадцать, половина месячной порции. А потом сидел на бобах и пил чай без сахара. Никто из солдат не пил чай внакладку. Это почиталось величайшим, непростительным барством, офицерской, дворянской привилегией.
Солдаты пили чай вприкуску, держа в зубах крошечный осколок рафинада, которого хватало на несколько кружек и даже иногда остававшегося на потом, до следующего чаепития. Большинство же пили чай даже не вприкуску, а вприглядку, то есть только смотря на кусочек сахара, а свой сахарный паек копили в холщовых мешочках, с тем чтобы при первой оказии послать домой, где сахар с каждым днем дорожал и вообще считался недоступной роскошью.
Когда я бултыхал в кружку большой кусок колотого рафинада, мои товарищи по орудию многозначительно переглядывались не то с осуждением, не то с восхищением: вот, мол, хоть и простой канонир, хоть и вольноопределяющийся, а позволяет себе вроде офицера. Ничего не поделаешь, как-никак барин, привык пить чай внакладку.
«Ну, конечно, когда, даст бог, выйдет из вольноперов и прапорщики, тогда заживет!»
Несмотря на все мои попытки внушить товарищам-батарейцам, что я живу на солдатском положении из соображений высокого патриотизма, желая разделить с простым народом все тяготы войны, солдаты меня хотя и не опровергали, но про себя знали, что «их Саша» тянется в прапорщики и скоро дотянется, так как имеет сильную руку в лице генеральской дочки.
А в общем, орудийцы, присмотревшись ко мне, приняли меня за своего и даже научили хорошо колоть дрова – вещь не простая.
«Я научился ровно и глубоко всаживать топор в сосновый чурбачок, поставленный на попа. Не без усилия вскидывал этот чурбачок вместе с топором вверх, поворачивал над головой и с силой обрушивал на землю, причем чурбачок разваливался пополам, и я лихо колол его половинки на отдельные поленья, так замечательно пахнущие скипидаром. При этом в крепком морозном воздухе раздавался музыкальный звук лопающегося дерева. Я и белье научился стирать казенным казанским мылом, серым с синими прожилками, так что и синьки не требовалось…»
(Я, извините за грубость, бегал до ветру и, сидя довольно далеко от батарейной линейки над очком специально отрытого нужника, кряхтя и по-солдатски повесив на шею ремень, отчаянно боялся, что именно сейчас начнется обстрел, налетит немецкий снаряд и я буду убит при столь постыдных обстоятельствах. Так что, едва справив нужду, я поскорее возвращался, застегиваясь на бегу, при общем добродушном смехе батарейцев…)
«16-111-16 г. Действ, армия. Милая Миньона! 14 марта батарея говела. Возле козырька, под которым стоит первое орудие, устроили нечто вроде иконостаса из срубленных елочек и установили походный алтарь. Расчистили площадку и посыпали ее песком. Утрамбовали. Над орудием арка из хвойных веток и над ней буквы, сплетенные тоже из хвои: Б. Ц. X. (Боже царя храни.) Ранним утром нас вызвали из землянок в «церковь».
Очень пасмурный, дождливый, пронзительно-холодный день. Вокруг непроницаемый туман. Дождь пополам со снегом и ледяной крупой, которая бьет по лицам и спинам. На площадке толпа серых шинелей, потемневших от дождя. Вхожу в эту толпу; стоим лицом к хвойной арке, откуда, из-под козырька орудия, доносится голос бригадного священника. Он громко читает молитву. После этого мы по очереди подходим к походному окладному алтарю: высокие козлы с брезентовым верхом, где лежит Евангелие. Видно, как священник, в теплой рясе с каким-то военным орденом, взмахивает епитрахилью, накрывает чью-то стриженую солдатскую голову, кладет на нее крестное знамение и наскоро бормочет невнятную формулу отпущения грехов, в которой улавливаю только «да простит господь бог». Склоненная голова без головного убора поднимается, рука крестит лоб, и фигура в мокрой шинели, согнувшись, отходит в сторону, давая место другой мокрой фигуре.
Собственно, исповеди никакой нет. Одна формальность. Все делается быстро, по-походному. Вот тебе и отпущение грехов. А каких, собственно, грехов? Какие грехи у солдат?
По окончании исповеди минут через пятнадцать краткая речь священника отца Аркадия и сейчас же без промедления причастие, совершающееся так же быстро, автоматически, как и исповедь.
Три солдата почтенной наружности – два баса и звенящий тенорок – поют нечто великопостное, и от этого пения в душе у меня вдруг начинает звенеть какая-то забытая с детства струна».
…что-то увиделось, как тогда в трамвае… Великопостная синева церковных окон, лампады, стройное тихое пение хора, запах ладана…
«Потягивало ладаном. Солдат, исполняя роль церковного прислужника, машет огнедышащим кадилом. Все причащаются, и я тоже причащаюсь теплым кагором и крошкой белого хлеба, превращенными в тело и кровь Христовы.
Причащаюсь и отхожу в сторону.
И от всего этого у меня осталось впечатление склоненных, коротко остриженных солдатских голов с красными от холода ушами, на мочках которых висят капельки дождя, как сережки.
Вокруг уже не моросящий, а проливной дождь, и скука в землянке, и чувство неловкости и даже стыда от этой евхаристии перед орудием, украшенным хвойными гирляндами.
Вспомните же дождливый день в конце некоего августа на даче, срывающий все планы на свиданье в садовой беседке!
Наш бревенчатый потолок как нарочно протекает над моей головой. А назавтра – вдруг! – солнечный день без единого облачка. Нет, Миньона, Вы только представьте себе: настоящая русская северная весна, словно бы картина из «Снегурочки». Звенят жаворонки. Кричат вороны. Все вокруг ослепительно блестит: лепечут бриллиантовые ручьи, ключи, речки, сияют озера. Из каждой лужи бьет в глаза солнце. В каждом солдатском зрачке – весна. Даже колесо белорусского колодца, из которого я набираю в ведро воду, скрипит и поет, как свирель Леля.
Господи, как прекрасен мир, а мы…
Если бы мне пришлось нынче умереть, я, пожалуй, пожалел бы о своей жизни, о молодости, о любви.
Неприятельские аэропланы, перестрелка, озера небесного цвета. Война!
Кто же все это смешал воедино, какой антихрист?
Ваш А. Пл.
А вот следующее письмо:
«11 мая 1916 г. Действ, армия. Пожалуйста, пришлите мне свою фотографическую карточку…»
Однако в чем дело? Почему такой длинный перерыв в переписке? Ах да! Я все-таки добился, конечно не без содействия Миньоны, командировки и провел пасхальную неделю в тылу, в родном городе, дома.
Об этой пасхальной неделе у меня сохранились самые смутные воспоминания, хотя осталось общее представление, что именно в этот короткий период в моей душе произошел какой-то странный поворот, а телесно я превратился из юноши, почти мальчика в молодого мужчину, и этому возмужанию содействовало все вместе: и яркая южная весна, и пасхальная неделя, которую я провел совсем не так, как предполагал, а главное, то ощущение причастия, которое я принял еще на страстной неделе в действующей армии перед походным алтарем, поставленным возле орудия смерти, на батарее, с непокрытой, коротко остриженной головой, мокрой от дождя пополам с мартовским снегом.
Меня не покидал серебряный и винный вкус причастия, которое торопливо сунул мне глубоко в рот бригадный священник. Впервые в жизни я не испытал таинственного страха, восторга и умиления, принимая святую частицу тела Христова и каплю теплой его крови. Я как бы почувствовал в тот миг, что это мое последнее причастие и отрешение от церкви. Я еще не сознавал, что со мной случилось нечто непоправимое: потеря веры. Веры уже не было. Ее убила война. А церковь еще продолжала меня волновать всеми соблазнами пасхальной заутрени, бумажными цветами, кострами свечей, перевитых тончайшими сусальными парчовыми и глазетовыми ризами священнослужителей, резкими восклицаниями хора, восторгом воскресения того, кто, «смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав…».
Не знаю, даровал ли он живот, то есть жизнь, мертвому Стародубцу и тем солдатам, которые тогда ночью лежали на снегу в лужах крови…
В эту пасхальную ночь я отбросил все мучительные мысли. Судьба несла меня куда-то, не спрашивая, хочу я этого или не хочу. Все сделалось вопреки моим намерениям.
…бренча неположенными мне по званию шпорами, купленными в галантерейном магазине, подтянутый, без шинели, впервые в жизни побрившийся в парикмахерской, где меня щедро обрызгали цветочным одеколоном, я окунулся в теплую мглу южной пасхальной ночи, озаренную огнями плошек, свечей, бумажных и стеклянных трехцветных коронационных фонариков, которые все же не могли затмить созвездий, висевших над городом. Созвездия как бы колыхались от слитого колокольного звона, гудевшего над крышами и ходившего тяжелыми волнами.