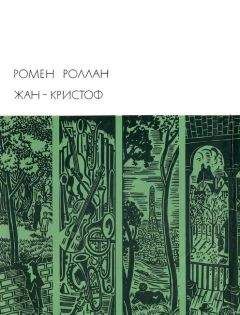Владимир Набоков - Дар
За три дня до отъезда матери, в большом, хорошо знакомом русским берлинцам зале, принадлежащем обществу зубных врачей, судя по портретам маститых дантистов, глядящих со стен, состоялся открытый литературный вечер, в котором участвовал и Федор Константинович. Народу набралось мало, было холодно, у дверей покуривали все те же примелькавшиеся представители местной русской интеллигенции, – и, как всегда, Федор Константинович, увидев то или иное знакомое, симпатичное лицо, устремлялся к нему с искренним удовольствием, сменявшимся скукой после первого разгона беседы. К Елизавете Павловне присоединилась в первом ряду Чернышевская; и по тому, как мать изредка поворачивала то туда, то сюда голову, поправляя сзади прическу, Федор, витавший по залу, заключил, что ей мало интересно общество соседки. Наконец начали. Сперва читал писатель с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами; он прочел толково-бытовым говорком повесть из петербургской жизни накануне революции, с героиней, нюхавшей эфир, шикарными шпионами, шампанским, Распутиным и апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой. После него некто Крон, пишущий под псевдонимом Ростислав Странный, порадовал нас длинным рассказом о романтическом приключении в городе стооком, под небесами чуждыми: ради красоты, эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетели, и почему-то раз десять повторялось слово «сторожко» («она сторожко улыбку роняла», «зацветали каштаны сторожко»). После перерыва густо пошел поэт: высокий юноша с пуговичным лицом, другой, низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенсне, еще барышня, еще молодой, наконец – Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки, и так изумительно было, что вот, из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеродное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны. Последним выступил Годунов-Чердынцев. Он прочел из сочиненных за лето стихотворений те, которые Елизавета Павловна так любила, – русское:
Березы желтые немеют в небе синем…
и берлинское, начинающееся строфой:
Здесь все так плоско, так непрочно,
так плохо сделана луна,
хотя из Гамбурга нарочно
она сюда привезена…
и то, которое больше всего ее трогало, хотя она как-то не связывала его с памятью молодой женщины, давно умершей, которую Федор в шестнадцать лет любил:
Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь – вон ласточку ту?
И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету…
До завтра, навеки, до гроба, –
однажды, на старом мосту…
Но было уже поздно, многие продвигались к выходу, какая-то дама одевалась спиной к эстраде, ему аплодировали жидко… Чернела на улице сырая ночь, с бешеным ветром: никогда, никогда не доберемся домой. Но все-таки трамвай пришел, и, повисая в проходе на ремне, над молчаливо сидящей у окна матерью, Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением, уже искал создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе.
Накануне ее отъезда они вдвоем поздно засиделись в его комнате, она в кресле, легко и ловко (а ведь прежде вовсе не умела) штопала и подшивала его бедные вещи, а он, на диване, грызя ногти, читал толстую, потрепанную книгу; раньше, в юности, пропускал некоторые страницы, – «Анджело», «Путешествие в Арзрум», – но последнее время именно в них находил особенное наслаждение: только что попались слова: «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой», как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, он отложил книгу и слепыми пальцами полез в картонку с набитыми папиросами. В ту же минуту мать, не поднимая головы, сказала: «Что я сейчас вспомнила! Смешные двустишия о бабочках, которые ты с ним вместе сочинял, когда гуляли, – помнишь, – Надет у fraxini под шубой фрак синий». «Да, – ответил Федор, – некоторые были прямо эпические: То не лист, дар Борея, то сидит arborea». (Что это было! Самый первый экземпляр отец только что привез из путешествия, найдя его во время переднего пути по Сибири, – еще даже не успел описать, – а в первый же день по приезде, в лешинском парке, в двух шагах от дома, вовсе не думая о бабочках, гуляя с женой, с детьми, бросая теннисный мяч фокстерьерам, наслаждаясь возвращением, нежной погодой, здоровьем и веселостью семьи, но бессознательно, опытным взглядом ловца, замечая всякое попадавшееся на пути насекомое, он внезапно указал Федору концом трости на пухленького, рыжеватого, с волнистым вырезом крыльев, шелкопряда из рода листоподобных, спавшего на стебельке, под кустом; хотел было пройти мимо, – в этом роде виды друг на друга похожи, – но вдруг сам присел, наморщил лоб, осмотрел находку и вдруг сказал ярким голосом: «Well, I'm damned![15] Стоило так далеко таскаться». «Я тебе всегда говорила», – смеясь вставила мать. Мохнатое, крошечное чудовище в его руке было как раз привезенная им новинка, – и где, в Петербургской губернии, фауна которой так хорошо исследована! Но как часто бывает, разыгравшаяся сила совпадения на этом не остановилась, ее хватило еще на один перегон, – ибо через несколько дней выяснилось, что эта новая бабочка только что описана, по петербургским же экземплярам, одним из коллег отца, – и Федор всю ночь проплакал: опередили!).
И вот она собралась обратно в Париж. В ожидании поезда они долго стояли на узком дебаркадере, у подъемной машины для багажа, а на других линиях задерживались на минуту, торопливо хлопая дверьми, грустные городские поезда. Влетел парижский скорый. Мать села и тотчас высунулась из окна, улыбаясь. У соседнего добротного спального вагона, провожая какую-то простенькую старушку, стояла бледная, красноротая красавица, в черном шелковом пальто с высоким меховым воротом, и знаменитый летчик-акробат: все смотрели на него, на его кашне, на его спину, словно искали на ней крыльев.
«Хочу тебе кое-что предложить, – весело сказала мать на прощание. – У меня осталось около семидесяти марок, они мне совершенно не нужны, а тебе необходимо лучше питаться, не могу видеть, какой ты худенький. На, возьми». – «Avec joie»[16], – ответил он, зараз вообразив годовой билет на посещение государственной библиотеки, молочный шоколад и корыстную молоденькую немку, которую иногда, в грубую минутку, все собирался себе подыскать.
Задумчивый, рассеянный, смутно мучимый мыслью, что матери он как бы не сказал самого главного, Федор Константинович вернулся к себе, разулся, отломил с обрывком серебра угол плитки, придвинул к себе раскрытую на диване книгу… «Жатва струилась, ожидая серпа». Опять этот божественный укол! А как звала, как подсказывала строка о Тереке («то-то был он ужасен!») или – еще точнее, еще ближе – о татарских женщинах: «Оне сидели верхами, окутанные в чадры: видны были у них только глаза да каблуки».
Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона – и уже знал, чего именно этот звук от него требует. Спустя недели две после отъезда матери он ей написал про то, что замыслил, что замыслить ему помог прозрачный ритм «Арзрума», и она отвечала так, будто уже знала об этом. «Давно я не бывала так счастлива, как с тобой в Берлине, – писала она, – но смотри, это предприятие не из легких, я чувствую всей душой, что ты его осуществишь замечательно, но помни, что нужно много точных сведений, и очень мало семейной сентиментальности. Если тебе что нужно, я сообщу тебе все, что могу, но о специальных сведениях сам позаботься, ведь это главное, возьми все его книги, и книги Григория Ефимовича, и книги великого князя, и еще, и еще, ты конечно разберешься в этом, и непременно обратись к Крюгеру, Василию Германовичу, разыщи его, если он еще в Берлине, он с ним раз вместе ездил, помнится, а также к другим, ты лучше меня знаешь к кому, напиши к Авинову, к Верити, напиши к немцу, который до войны приезжал к нам, Бенгас? Бонгас? напиши в Штутгарт, в Лондон, в Тринг, всюду, débrouille-toi[17], ведь сама я ничего в этом не смыслю, и только звучат в ушах эти имена, а как я уверена, что ты справишься, мой милый». Но он еще ждал, – от задуманного труда веяло счастьем, он спешкой боялся это счастье испортить, да и сложная ответственность труда пугала его, он к нему не был еще готов. В течение всей весны продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его, – живым примером служило: