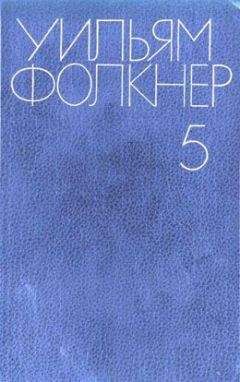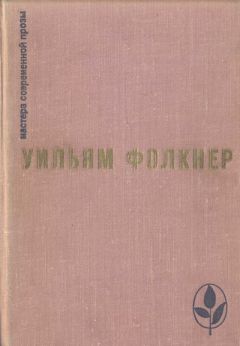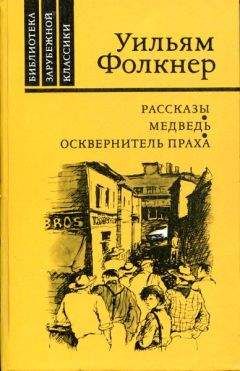Уильям Фолкнер - Особняк
Но в Парчмене человек иначе воспринимал только то, что увидел после ареста. Парчмен не влиял на то, что человек принес сюда с собой. Просто вспоминать стало легче, потому что Парчмен учил человека ждать. Он вспоминал тот день, когда судья сказал; «Пожизненно», а он все еще верил, что Флем явится и спасет его, а потом наконец понял, что Флем не придет, что он и не собирался прийти, вспоминал, как он тогда же сказал, почти что крикнул вслух: «Вы отпустите меня хоть ненадолго, мне бы только попасть на Французову Балку или где он там будет, минут на десять, а потом я вернусь сюда, и можете меня повесить, ежели вам это нужно». И как даже тогда, три, пять или восемь лет назад, когда Флем подослал этого племянника — как его звали? — да, Монтгомери Уорд, и тот подговорил его на побег в женском платье и шляпе, а ему за это добавили еще двадцать лет, точь-в-точь как с самого начала предсказал этот дурак мальчишка, этот адвокат, — как даже тогда, отбиваясь от пяти надзирателей, он все еще кричал то же самое: «Только отпустите меня в Джефферсон на десять минут, потом я сам вернусь, потом можете меня повесить!»
Теперь он об этом уже не думал, потому что научился ждать. И он понял, что в ожидании он ко всему прислушивается, многое слышит; и, слушая, прислушиваясь, он даже лучше знал о том, что делается, чем если бы сам был в Джефферсоне, потому что тут ему надо было только следить за всем, а беспокоиться не надо. Значит, жена уехала к своим родным и, как говорили, умерла там, а дочки тоже уехали, выросли; может, на Французовой Балке, кто-нибудь знает, куда они девались. А Флем стал богачом, президентом банка, живет в доме — сам его перестроил, и дом, как рассказывали, был громадный, больше мемфисского вокзала, и с ним жила дочка, ублюдок от покойной дочери старого Билла Уорнера, дочка эта, когда выросла, уехала из дому, вышла замуж, а потом она с мужем была на войне, где-то в Испании, и там не то бомбой, не то снарядом убило ее мужа, а ее совсем оглушило. Теперь она вернулась, вдовая, живет с Флемом вдвоем в огромном этом доме и, говорят, даже грома не слышит, но в Джефферсоне народ ее не очень жалеет, потому что она связалась с какой-то негритянской воскресной школой, а еще говорили, что она связалась с какими-то «коммонистами», муж ее тоже был из них, будто они в той войне и дрались на стороне этих самых «коммонистов».
Флем, наверно, постарел. Оба они постарели. Когда он выйдет, в тысяча девятьсот сорок восьмом году, они с Флемом оба будут совсем стариками. А может, Флем и не доживет, и ему незачем будет выходить в тысяча девятьсот сорок восьмом году, а может, он и сам не доживет, не выйдет в тысяча девятьсот сорок восьмом году, и он вспоминал, как вначале одна эта мысль приводила его в бешенство: вдруг Флем умрет своей смертью, а может, найдется другой человек, удачливей его, такой, что не обречен судьбой на неудачу, такой, которого не поймают, и тогда ему казалось, что этого не вынести: ведь он не справедливости требовал, справедливость только для счастливцев, только для победителей, но может же человек хотя бы надеяться на удачу, имеет же каждый право на удачу. Но и это все уже отошло, расплылось, распылилось в монотонном ожидании, в тысяча девятьсот сорок восьмом году оба они с Флемом уже будут стариками, и он даже бормотал вслух: «Жаль, что нельзя нам, старикам, просто выйти вместе, посидеть спокойно на солнышке или в холодке, дождаться, пока смерть нас обоих заберет, и ни о чем не думать, ни о каком-то там зле или обиде, ни о счетах, даже не помнить, что было зло, была обида, и беда, и расплата». Двое стариков, они не только никому уже не нужны, но скоро и совсем будут ни к чему, разве можно стереть, зачеркнуть, изничтожить те сорок лет, которые ему, Минку, тоже теперь ни к чему, а скоро он о них и совсем жалеть не станет. «Нет, как видно, теперь уж мы ничего поделать не можем, — думал он. — Теперь уж мы оба ничего вспять не повернем».
И снова осталось только пять лет — и он выйдет на свободу. Но на этот раз он твердо помнил урок, который ему преподал дурак адвокатишка тридцать пять лет назад. Их было одиннадцать. Они работали, и ели, и спали вместе — одна кандальная команда, они жили в отдельном бараке из досок, парусины и проволоки, — стояло лето: скованные одной цепью, они шли в столовую есть, потом — в поле работать, потом, опять-таки скованные цепью, спать в свой барак. И когда был задуман побег, все десять должны были втянуть его в заговор, чтоб он их случайно не выдал. Они не хотели его втягивать: двое так и не согласились на это. Потому что с той неудавшейся попытки бежать не то восемнадцать, не то двадцать лет назад всем было известно, что он по собственному почину стал горячим проповедником доктрины воздержания от побегов.
И когда они наконец сказали ему просто потому, что он должен был знать их тайну, чтобы по неведению ее не выдать, хотел он или не хотел участвовать в побеге, то в ту самую минуту, как он сказал, крикнул: «Нет! Стойте, погодите! Погодите! Не понимаете вы, что ли, если хоть один из нас попробует бежать, они всех обвинят, схватят, тогда уж никому не выйти, даже если отсидишь свои сорок лет», — он тут же понял, что наговорил лишнего. И когда он себе сказал: «Теперь мне надо освободиться от этой команды, уйти от них», — он не думал: «Если я окажусь с ними в темноте, один, без часовых, мне никогда больше свету не видать, — а просто подумал: Надо вовремя поспеть к начальнику, пока они не удрали, может, уже сегодня ночью они всех нас погубят».
Но все равно ему пришлось ждать наступления той самой темноты, которой он так боялся, ждать, когда потушат свет, и притворяться спящим, ждать, чтобы убийцы на него напали, потому что только во время переполоха, который подымется при нападении на него, он мог надеяться привлечь внимание часового, предупредить его, заставить его поверить. А это значило, что он должен был хитростью перекрыть хитрость: он застыл на своей койке, пока они не начали притворно храпеть, чтобы заглушить его подозрения, прислушивался напряженно, неподвижно, затаив дыхание, чтобы вовремя, сквозь храп, разобрать тот звук, который предвещал удар ножа (или палки, или еще чего-нибудь) и успеть скатиться, слететь с койки, еще одним судорожным движением перекатиться под койку, пока они — он не мог разобрать, сколько их, потому что громкий притворный храп стал еще громче, — пока они не набросились на пустоту, где еще какую-то долю секунды назад лежал он сам.
— Держи его! — задохнулся, зашипел кто-то. — У кого нож?
И другой голос:
— У меня. Да где ж он, сволочь? — А он, Минк, даже не остановился: еще одно судорожное движение, и он выкатился из-под койки и на четвереньках, меж топочущими ногами, прорвался, отполз как можно дальше от койки. Весь барак сдавленно шумел.
— Свет давай! — бормотал кто-то. — Хоть на минуту свет!
Вдруг он очутился в пустоте, на свободе, и смог вскочить. И тут он завизжал, заорал без слов — только крик, резкий человеческий голос, и сразу кто-то зашептал, задыхаясь:
— Вот он. Держи…
Но он уже отбежал, отпрыгнул, отскакивая от одного невидимого тела к другому, как бильярдный шар, крича, вопя неумолчно, даже когда понял, что сквозь парусиновые стены видно, как весь воздух пронизан не только прожекторами, но и воем сирены, а сам он окружен озверелыми молчаливыми людьми, они, словно рыбы, то выскакивали, то пропадали в беглом низком свете, который проникал через проволочную сетку над невысокой дощатой перегородкой, он даже увидел, как над ним сверкнул нож, и он нырнул, бросился в гущу, в водоворот ног, пытаясь пролезть под койку, под любую койку, чтоб уйти от ножа. Но было поздно, они уже увидали его. Он исчез под ними. Но и для них было поздно: казалось, что буравящие лучи прожекторов, даже самый вой сирены — все нацелено, направлено, сосредоточено на шатком, непрочном загончике, набитом орущими людьми. Ворвалась стража. Стражники били их по головам пистолетами, прикладами винтовок, оттаскивая их от него, пока он не оказался на виду у всех, избитый, окровавленный, но все еще в сознании. Он даже ухитрился в последнем судорожном усилии так вывернуться, что нож, который должен был пригвоздить его к полу, воткнулся в доски у самого его горла.
— Чуть не пришили, — сказал он стражнику. — Но, выходит, наша взяла.
Взяла, да не совсем. Он опять попал в больницу и только потом узнал, как на следующую же ночь двое — Стилвелл, шулер, который зарезал проститутку в Виксбурге (нож принадлежал ему), и второй, — они оба и настаивали, чтобы его, Минка, не посвящали в заговор, а просто заранее прикончили, — все равно пытались бежать, хотя убежал только Стилвелл, а второму выстрелом часового снесло полчерепа.
И опять он очутился в кабинете начальника. На этот раз перевязок было мало, а швов и совсем не накладывали: били его недолго, и никакого оружия, кроме кулаков и ног, у них не было, нож Стилвелла в счет не шел.
— Ведь нож был у Стилвелла, верно? — сказал начальник.