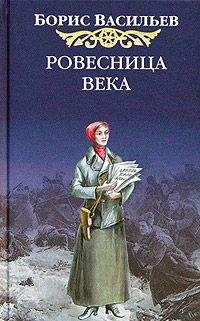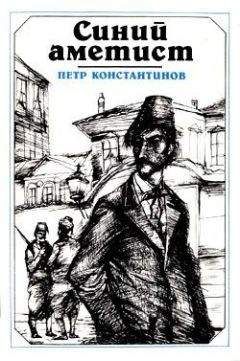Борис Васильев - Были и небыли
— Останься здесь, капитан, — негромко сказал Цеко Петков.
— Там гибнут мои друзья, воевода!
— Они не гибнут. Они побеждают: Меченый атакует редут с тыла.
Услышав стрельбу, Отвиновский, а за ним и гайдуки вскочили и, уже не ложась, пошли к редуту, стреляя на ходу. Пальба гремела вокруг: русские части, перегруппировавшись, вновь пошли на штурм. «Ура!» слышалось все яснее и яснее.
— Вот теперь пора, капитан, — сказал воевода. — Бери резерв.
В резерве стояло два десятка четников. Гавриил сбросил полушубок, привычно сунул запасной револьвер за ремень, взяв два других в руки.
— За мной, юнаки!
Только выбравшись из леса, капитан понял, как трудно было атаковать юнакам Цеко Петкова. Он тяжело бежал по уже умятому снегу, и каждый шаг стоил пота. Ноги проваливались в запорошенные ямы, скользили на обледенелых камнях, тонули в рыхлом снегу. Да, если бы не отчаянная ночная атака первого эшелона, турки не оставили бы на этом голом скате никого в живых. Но теперь все их внимание переключалось на Курт Хиссар, и Рафик-бей наверняка снял из редута лучших стрелков. И получил подряд три неожиданности: прицельный огонь русских полевых орудий, атаку с правого фланга и внезапный удар Меченого с тыла.
Встречный огонь переставал быть залповым: турки метались в редуте между тылом и флангом. Отвиновский упрямо шел вперед по пояс в снегу, а с другой стороны доносилось «Ура!», и пушки Потапчина безостановочно громили укрепления Курт Хиссара.
— Не давать им передышки, — сказал Карцов. — Отдыхать будем в Долине Роз.
Русские наступали по всем дорогам, ведущим с Траян в Забалканье. Впереди шли стрелки, огнем добивавшие бегущих турок, не позволяя им останавливаться. Спешенные донцы и гайдуки Петкова двинулись напрямик по крутому заснеженному склону, скатываясь в вихрях поднятого снега. И уже не «Ура!», а веселый хохот сотен глоток обрушивался с ледяных вершин в солнечную долину.
Отвиновский, Олексин и группа гайдуков спускались по тропе в обход Карнари. Спустились без помех, по дороге обстреляв сунувшихся было на их тропу турок.
— И все же мы первыми в истории с боем прорвались через Траяны, — с торжеством отметил Гавриил.
— Оглянитесь, Олексин, — вдруг тихо сказал Отвиновский.
Войска уже спустились в долину, но весь южный склон, все дороги и тропы были усеяны тысячами людей. Вслед за победоносной русской армией шли женщины и мужчины, старики и дети. Народ Болгарии, согнанный полчищами Сулеймана, возвращался на свою родину.
— Меня всегда мучил вопрос, за что меня убивали и за что убивал я. Теперь я знаю ответ, Олексин, вот за это. За то, чтобы женщины и дети вернулись к своим очагам.
В светло-голубых, всегда холодных глазах Отвиновского Гавриил с удивлением заметил слезы.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Ни природное здоровье, ни врачебная помощь «самого» Павла Федотыча, ни самоотверженный уход Глафиры Мартиановны не могли изменить естественного хода болезни. Маша металась в бреду, отказываясь от еды и никого не узнавая. Редко на считанные минуты видения отпускали ее, но и тогда у Маши хватало сил лишь на то, чтобы осознать, что минувшее было бредом. И, едва поняв это, вновь видела погибавшего Беневоленского. То окровавленного, с огромными слепыми глазами, то летящего в пропасть, то тонущего в пучине. И всегда он безгласо разевал рот, и она понимала, что он зовет ее, спешила на помощь, а ноги не двигались, и ужас терзал ее до физической боли. Возможность спасти Аверьяна Леонидовича была только одна, к ней нельзя было прибегать бесконечно, ее следовало беречь, и Маша пользовалась ею, когда сил более не было:
— Мама!
И мама появлялась. Наклонялась над нею, вытирала пот, поила, переодевала, успокаивала. Маша отчетливо видела ее, но понимала, что разговаривать с мамой нельзя, что ответит она незнакомым голосом и что тогда на помощь позвать ее будет уже невозможно.
— Доченька ты моя, — шептала Глафира Мартиановна, переодевая Машу в сухую теплую рубашку.
— Надобно передать Марию Ивановну в госпиталь, — настаивал Павел Федотыч, видя, что больная тает в горячечном бреду. — Там медикаменты и врачи. Да, да, ваше превосходительство, светила науки не то что я.
Рихтер горестно кивал седой головой, Глафира Мартиановна, прорыдав ночь, тоже согласилась, и Маша была переведена в ближайший военно-временный госпиталь. Сама она не заметила и не ощутила этой перемены, но перевезли ее вовремя. Через неделю больная пришла в себя в незнакомой палате, и незнакомая сестра милосердия в иной, казенной форме была первой, кого увидела она.
— Вот мы и в сознании, — нараспев, как маленькой, сказала сестра. — И глазки все видят, и ушки все слышат. Сейчас позовем доктора.
— Зеркало, — Маша с трудом выговорила первое осмысленное слово. — Нельзя ли зеркало?
Сестра на миг задумалась, потом снова заулыбалась и беспечно махнула рукой.
— Отрастут, Мария Ивановна!
Подала зеркало, и Маша увидела себя и — не себя. Увидела незнакомое худенькое, очень бледное личико, знакомые синие глаза и — чужую, постороннюю голову. Стриженую, как у новобранца.
Последняя волна болезней, катившаяся по многострадальным тылам, под конец свалила и железную Глафиру Мартиановну. Правда, то был не тиф, не оспа и даже не воспаление легких, а всего лишь простуда, но проходила она тяжело, и Павел Федотыч наведывался по нескольку раз на дню. Генерал Рихтер тоже навещал больную, помогая в делах неотложных, и однажды среди очередной почты обнаружил письмо из Кишинева, адресованное Марии Ивановне Олексиной. Зная, как ждет Маша вестей о пропавшем женихе, генерал распорядился тут же переслать ей зашлепанный штемпелями конверт.
Письмо было от братьев Рожных. Ссылаясь на официальные сведения, братья с прискорбием извещали о гибели вольноопределяющегося Орловского полка Аркадия Прохорова. И жизнь сразу представилась конченой, без цели и интересов, и, едва окрепнув, Маша попросилась домой.
— До какого пункта желали бы? — угнетенно спросил Рихтер.
— В Смоленск. Домой хочется.
Рихтер выправил билет 1-го класса, подал личный экипаж, расцеловал и благословил. Провожала уже оправившаяся Глафира Мартиановна; они добрались до Бухареста, распрощались по-родственному. Маша долго махала в окно, а когда оглянулась, в купе сидела Александра Андреевна Левашева.
Чем ближе подъезжали к дому, тем все заснеженнее и суровее становилось вокруг. Поезд медленно полз по обледенелым рельсам, подолгу отдуваясь на станциях; пассажиры высыпали из вагонов и прятались в спертом тепле вокзалов, гоняя бесконечные чаи. Но в 1-м классе чай подавал проводник, вылезать не было необходимости, и случайные спутницы коротали время в разговорах.
— Дорогая моя, вы полагаете, что война — кровь, муки, смерть? Если бы. Увы, война — это безнравственность. Это торжество безнравственности, это апофеоз безнравственности, это триумф безнравственности. Да, да, дитя мое. Когда весьма воспитанная девица приживает на стороне ребенка — это война. Когда ваш друг и советник, которому вы доверяли, как себе, оказывается мошенником, поставляющим гнилую муку, — это война. Когда милая барышня… — Левашева покосилась на сдержанную Машу, — становится содержанкой этого мошенника Хомякова…
— Что? — вдруг спросила безучастная Маша.
— Увы, дорогая моя, — вздохнула Левашева. — Не будем называть имен, но ваша сестрица сама выбрала свой путь.
Александра Андреевна строго откинула голову, ожидая возражений, но тихая, по-монашески не снимавшая платка попутчица только тяжело вздохнула. Она более не спорила, не отстаивала своих взглядов: она покорно выслушивала все, что ей говорили, и эта покорность очень нравилась Левашевой.
— Вы прелестны, Машенька, прелестны. Не могу представить, что расстанусь с вами.
Маше казалось, что и ей не хочется расставаться с Александрой Андреевной. В уютном купе, в бесконечно длинном путешествии было покойно. Здесь она не встречала ни сочувствующих родных, ни любопытных посторонних взглядов; рядом находилась женщина, которая говорила только о себе, и Маша была глубоко благодарна ей за это: любое сочувствие, любой жалостливый вздох были невыносимы. А Александра Андреевна сокрушалась, что придется расстаться, а потом напрямик предложила Маше собственный дом, неограниченные средства и вечную признательность.
— Мой несчастный брат любил вас, я знаю это, дорогая моя. Я безмерно богата и безмерно одинока. Будьте милосердны, скрасьте мою старость, и я устрою вашу судьбу. А бедный Серж будет радоваться на небесах и благословлять нашу любовь.
Маше уже не хотелось ехать в Смоленск, что-то объяснять, рассказывать, выслушивать. И она согласилась посвятить свою жизнь развлечениям стареющей матроны, утонула в ее слезах и поцелуях и испытала странное, почти болезненное удовлетворение, что ставит крест на собственной судьбе.