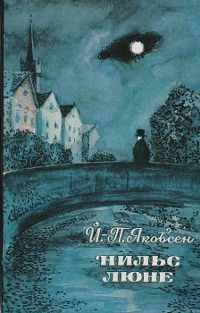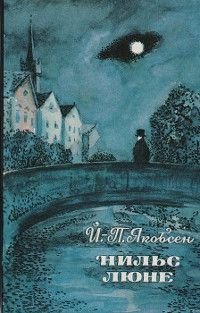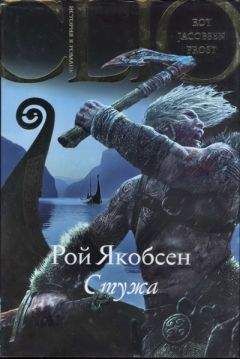Йенс Якобсен - Нильс Люне
— Вы кого–то ждете? — спросил вошедший, ища глазами, куда бы повесить пальто.
— Нет, я один.
— Вот и чудесно.
То был доктор Йерриль, молодой человек, которого Нильс встречал у статского советника; по шпилькам статской советницы он заключил, что тот отчаянный вольнодумец в вопросах религии; с его же собственных слов Нильс знал, что в вопросах политических он, напротив, ужасный ретроград. Таких людей нехотя принимали у статского советника — верного сына церкви и либерала. Доктор же, по взглядам и но связям покойной матери, принадлежал к тому широкому тогда кругу, где на новые свободы поглядывали настороженно, если не враждебно, и где в вопросах религии принимали более чем рационалистические, но менее чем атеистические воззрения, если не исповедовали равнодушия либо мистицизма, что тоже случалось. В этом кругу, на разные, впрочем, лады, объявляли, что Голштиния столь же близка сердцу датчанина, как и Ютландия, не чувствовали никакого родства со Швецией и не уповали на все датское в новоявленных формах. Наконец, Мольера там знали лучше, чем Хольберга, Баггесена лучше, чем Эленшлегера, и, быть может, обнаруживали известную слащавость вкуса.
Такие или близкие им воззрения формировали юного Йерриля.
Он, моргая, смотрел на Нильса, покуда тот поверял ему свои наблюдения над прочими присутствующими, особенно остановись на том, как все они смущены, что в такой вечер для них не сыскалось ни одного порядочного дома.
— О, я это прекрасно понимаю, — ответил холодно, почти как отрезал, Йерриль. — С легким сердцем в сочельник сюда не явишься и, разумеется, чувствуешь себя униженным, будто тебя вытолкали за порог. Вы–то почему здесь? Не хочется, так не отвечайте.
Нильс отвечал только, что последнее рождество встретил с покойной матерью.
— Простите меня, — сказал Йерриль, — вы очень любезны, что ответили; вы уж не сердитесь на мою подозрительность. Знаете, ведь кое–кто из молодежи приходит сюда, чтоб подшутить над рождеством, я же, поверьте, здесь лишь из почтения к чужим чувствам. Впервые я не пошел в сочельник к одной милой семье, которую знаю еще с детства, по родному городу. Мне вдруг показалось, что я мешаю им петь рождественские псалмы. Не то чтобы они стеснялись меня, для этого они слишком умные люди, но им неприятно, что кто–то среди них остается равнодушен к псалмам, не видит в них смысла. Так мне показалось.
Почти молча они отужинали, зажгли сигары и решили пойти выпить грогу где–нибудь еще. Ни тому, ни другому не хотелось сегодня смотреть на золоченые зеркала и красный бархат, наскучившие им в остальные вечера, и потому они направились в захудалый трактир, куда прежде не заглядывали.
Они тотчас поняли, что здесь не засидятся.
Хозяин в жилете, половые и несколько их приятелей сидели в глубине комнаты и играли в дурака. Хозяйка и хозяйские дочки следили за игрой и прислуживали за столом, но им прислуживать не стали; то, что спросили они, принес один из половых. Они поняли, что помешали, и выпили грог залпом. При их появлении они понизили голоса, а хозяин, хоть и не в силах был оторваться от стула, поспешил натянуть сюртук.
— Бесприютны мы с вами нынче, — сказал Нильс, когда они снова побрели по улице.
— Что ж, это в порядке вещей, — почти торжественно отвечал Перриль.
Заговорили о христианстве. Тема словно носилась в воздухе.
Нильс горячо накинулся на христианство, но это были все общие места.
Йерриль заскучал на избитой тропке знакомых словопрений и вдруг сказал без видимой связи с предыдущим:
— Остерегитесь, господин Люне; христианство у власти. Глупо ополчаться на правящую истину ради наследницы престола.
— Глупо или нет, мне что за дело?
— Не говорите так легкомысленно; я не думал оскорбить вас подобной пошлостью, тем более что это глупо с точки зрения практической. Это глупо и с точки зрения идеальной, трижды глупо. Остерегитесь. Примкните–ка лучше к другому какому–нибудь направлению. У вас, у поэта, должно быть столько других интересов.
— Я, право же, вас не понимаю. С самим собой ведь не поступишь, как с шарманкой, — вынул одну песенку и вставил другую, которую все насвистывают. Нет, я так не могу.
— Не можете? А кое–кто может. Вы скажете: это не про нас. Пе спешите. Мы сами порой не знаем, на что способны. Не столь уж разумно построен человек. Если постоянно упражнять правую руку, кровь приливает к ней в избытке, и она развивается за счет остального тела, а ноги, если их использовать лишь в случае крайней необходимости, понемногу сохнут. Улавливаете, к чему я веду? Посмотрите, как большинство, и лучшее большинство, обратилось у нас к свободам политическим. Посмотрите, и пусть это послужит вам уроком. Поверьте, бороться за идею побеждающую куда как соблазнительно, и куда как скверно принадлежать к побитому меньшинству, которому самый ход жизни доказывает его неправоту пункт за пунктом, шаг за шагом. Ведь горько, обидно видеть, как то, что ты в святыне сердца считаешь истиной и правотою, как эту твою истину бьет по лицу последний кашевар победного войска, слушать, как ее поносят, обзывают девкой, а ты ничего иного сделать не можешь, как только любить ее еще горячей, еще вернее, еще смиренней преклонять перед ней колена и видеть ее прекрасное лицо столь же прекрасным, столь же сияющим, как бы ни забрасывали ее грязью, как бы ни марали ее нимб. Да, горько, обидно, и души не убережешь, ведь сердце, того гляди, устанет от ненависти, боль притупится, и ты замкнешься в холодном презрение и на все махнешь рукой. Положим, если есть в тебе такое, что не даст погибнуть надежде, что поможет избежать легкого пути равнодушия, что даст силы стоя выдержать острые удары бича, не склоняться, и вслушиваться в смутные звуки, вглядываться в неясную полоску зари, которая — быть может — когда–нибудь — разгорится в ясный день… если есть в тебе такое! Но и не пытайтесь, Люне. Подумайте, что за жизнь! Только выскажешь мысль, и вокруг лопаются пузыри насмешек, шипят издевки. Каждое слово твое коверкают, пачкают, ломают, бросают тебе под ноги, а как только ты успеешь поднять его из грязи и отмыть, ты замечаешь, что все кругом вдруг оглохли. И так повторяется снова, с новой точки, но с тем же итогом, опять и опять. И больней всего, пожалуй, что тебя не понимают и презирают благородные люди, которых ты, несмотря на разницу воззрений, ценишь и чтишь. И непременно так, и нельзя тому быть иначе. На оппозицию нападают не за то, чего она действительно хочет, а за то, что думает или считает за благо думать о ней власть, и тут уж ничего не поделаешь; к тому же, где, скажите, грань между злоупотреблением властью и применением власти к слабейшему? Но кто же станет всерьез требовать, чтоб власть сама себя ослабила и боролась против оппозиции с равными силами? Борьба оппозиции — это борьба не на живот, а на смерть. И неужели же вы думаете, Люне, что все эти удары можно снести без упрямого, слепого восторга, имя которому фанатизм? Но как же фанатически веровать в нечто отрицательное? Фанатически проповедовать, что Бога нет? А без фанатизма нет победы. Но тсс… послушайте!
Они остановились под высоким окном с поднятой занавеской, и сквозь открытую форточку к ним полетели женские и детские голоса:
В Вифлееме он рожден,
Вифлеем благословим!
Радуйся, Иерусалим.
Аллилуйя! Аллилуйя!
Они молча побрели дальше. Голоса растаяли, а фортепьянное сопровождение неслось за ними вслед до самого угла.
— Слыхали вы, — спросил Йерриль, — слыхали, сколько восторга в этом старом иудейском победном кличе? И эти два названия европейских городов! Иерусалим, — это не просто символ всего города — Копенгагена, Дании, нет, это мы — крещеный народ в народе.
— Нет Бога, и человек пророк его! — сказал Нильс с горечью, но и с тоскою.
— В самом деле! — подхватил Йерриль. — Атеизм безмерно трезв, и цель его в конце концов — лишить человечество иллюзий. Вера в карающего, правящего Творца — последняя великая иллюзия человечества, и что, как оно ее утратит? Положим, оно будет умней; но богаче ли, счастливей? Не знаю.
— Да неужели, — разгорячился Нильс Люне, — неужели вы не понимаете, что в тот день, когда человечество, ликуя, возгласит: «Бога нет!» — в тот день, словно по волшебству, родятся новая земля и новое небо! Наконец–то небо сделается бесконечным вольным простором, а не страшным оком соглядатая. Наконец–то земля станет нашей, и мы — детьми ее, а темный мир вечного блаженства и вечной погибели лопнет, как мыльный пузырь. Земля станет истинным нашим отечеством, прибежищем души, и мы не будем ей пришлыми чужаками на краткий миг, но своими навеки. И как обогатится жизнь, когда все вместится в ней, а не будет оставаться вовне. Поток любви, сейчас восходящий к Богу, вернется на землю, когда опустеет небо, и нежно прольется на все те людские особенности и черты, какими мы изукрасили Нога, чтобы сделать его достойным поклонения. Доброта, справедливость, мудрость — да все разве перечислишь? Неужели вы не понимаете, как облагородится человечество, свободно живя и умирая, не страшась геенны огненной и не уповая на царствие небесное, лишь на себя надеясь, лишь своего суда опасаясь? Как обострится совесть и какую обретем мы твердость, когда узнаем, что ничего не искупить пустым покаянием и смирением и нет тебе прощенья, покуда не исправишь добром учиненное тобою зло.