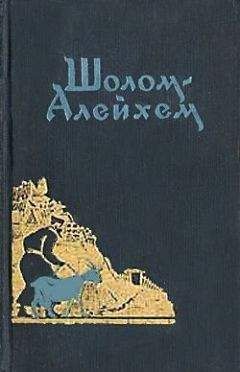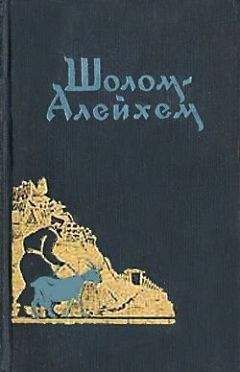Шолом-Алейхем - Иоселе-соловей
Чуть ли не впервые слышал Иоселе игру на рояле. Издали он, конечно, слыхал ее не однажды, но сидеть вблизи прекрасной женщины и видеть, как она маленькими белыми пальчиками извлекает из этого ящика мягкие, нежные звуки, из которых складываются такие дивные мелодии, — этого ему еще никогда не приходилось. Вся комната наполнилась звуками, и Переле вдруг обрела особую прелесть. И тут же сразу все преобразилось в глазах Иоселе: комната стала палатой. Переле — принцессой: попал он сюда каким-то чудом. И вот он слышит божественные звуки, которые точно елеем смягчают его сердце, ласкают, наполняют всего живительной силой. И ему вдруг захотелось сопровождать эту игру, вплести и свой голос в эти звуки. Иоселе начал в такт подпевать, а затем залился своим сладким, нежным голосом так, что Переле перестала играть и заслушалась. Но Иоселе попросил ее продолжать. И вот она играет, а он поет, импровизирует, сыплет трелями, щелкает, как настоящий соловей.
Развалившийся и мягком кресле чуть поодаль Гедалья-бас давно уже не слыхал, чтобы Иоселе так пел, как в тот вечер у Переле. Сухая душонка, Гедалья, по-настоящему ценивший только деньги, и тот заслушался; он испытывал истинное наслаждение. Это не помешало ему, однако, сообразить, что во всех отношениях будет разумней, если он уберется в гостиницу, оставив Иоселе с вдовушкой наедине. Лейца почтительно поднесла ему на серебряном подносе стакан ароматного чаю, но Гедалья, буркнув, что ему нужно еще успеть в одно место, отказался от угощенья и незаметно исчез.
Только в полночь, уже собираясь уходить, Иоселе заметил, что Гедальи нет. Переле, Иоселе и Лейца разразились хохотом и тут же порешили разбудить кучера — пускай запрягает и везет Иоселе в гостиницу. Но будить кучера не пришлось — карета уже стояла у крыльца, а на пороге дремал Берл-Айзик. Лейца глянула в его настороженное, заспанное лицо и дружески сказала:
— Это вы, реб Берл-Айзик, позаботились о карете? Э, да вы совсем-таки…
— Ну, как думаешь, Лейца, он мой? — спросила у горничной совсем уже раздетая Переле и бросилась в постель.
— Еще бы! — ответила Лейца, укрывая мадам мягким атласным одеялом. — Конечно, ваш! Разве вы не видели по его сверкающим глазам, что он совсем спекся?!
— Лейца, душа моя, сердце мое! — вскрикнула Переле и, обхватив служанку обеими руками, крепко-крепко прижала ее к груди.
А развалившийся в карете Иоселе-соловей катил в гостиницу. Он ощущал в себе какой-то новый живительный ток, и образ Переле неотступно витал перед его глазами. Он забыл обо всем на свете и мечтал лишь об одном — завтра снова отправиться туда, снова увидеть ее, услышать ее игру. И еще одно внезапно мелькнуло у него в голове: «Двести тысяч!», двести тысяч, о которых мельком обронил словцо Гедалья. Новая мысль завладела Иоселе, и ему представилось, что он въезжает в Мазеповку в карете, которую мчит четверка рысаков. Люди высыпали на улицу, стоят, изумляются. Отец выбегает навстречу: «Благословен вошедший…* Иоселе!» Иоселе выхватывает из кармана пачку ассигнаций и говорит отцу: «На, папа, десять тысяч… двадцать тысяч… Бросай петь! Пора уже, право!»
А Эстер? В ту минуту Иоселе вовсе забыл, что есть такая Эстер, которая ждет не дождется его. А когда уж Эстер пришла ему на ум, он поленился даже спросить себя: «Ну что тут особенного произошло?»
XX
Он попадает, в сети, но замечает это слишком поздно
Иоселе куда трудней было переступить первый раз порог в доме Переле, нежели спустя некоторое время согласиться на помолвку и пойти с ней под венец. Гедалья-бас взял на себя все хлопоты — договорился с раввином, с кантором, со служками. Он всюду бегал сам, добывал что нужно и делал необходимые приготовления к свадьбе. Конечно, ему помогал и его компаньон Берл-Айзик.
Хорошая работенка выпала на долю Гедальи-баса: ему пришлось выдержать бой с двумя деверьями Переле, с этими акцизниками. Они стали стеной и заявили:
— Пускай льется кровь рекой, но мы не допустим у себя в Стрище эдакого позора. Пусть она отправляется в свой Бердичев и там вешается на шею кому угодно. А мы не дадим здесь надругаться над памятью брата. Еще место его не остыло. Это что ж такое? Что за распутство?!
Но и Гедалья не молчал. И хотя изъяснялся он по своему обыкновению намеками да экивоками, был в состоянии переговорить кого угодно. И он доказал им, что, во-первых, это для их брата, мир праху его, не позор, а честь. Потому что Б-г весть в какие руки может попасть по нынешним временам вдова с эдаким добром. А Иоселе все-таки благородного происхождения: в роду у него сплошные раввины. Еще сейчас в семье у него два раввина и три помощника раввина. Во-вторых, ему ни к чему ее деньги, он и сам, не сглазить бы, достаточно богат и дает деньги под проценты. Шутка сказать, какой это золотопряд! А рубль он бережет как зеницу ока. Уж не беспокойтесь, Гедалья знал, чем взять стрищенского богача. К тому же он разнюхал, что акцизники имеют какие-то претензии к вдове по поводу компанейского контракта с одним помещиком. Гедалья занялся этим делом и добился, чтобы она отказалась от контракта в их пользу: «Пропади они пропадом!» Переле морщилась, кривилась, но, увлеченная своей любовью, скрепя сердце отдала контракт. И на третий день после помолвки состоялась свадьба. А там все разъехались восвояси.
Гедалья рассчитался с певчей братией и отправился домой, увозя в кармане порядочную сумму денег, которой вполне хватит и на женитьбу дочери и еще себе останется про черный день. Ему повезло во всех отношениях. Последнее время Гедалья не раз замечал, что соловей стал пускать петуха, и, кажется, он скоро вовсе лишится голоса. Голос у него, как говорят, ломался, а до того времени, когда установится настоящий голос, может пройти и год и два. «Отныне, — думал Гедалья, — пускай он хоть зверем воет, хоть белугой ревет, — я не стану плакать». Но попрощался он с Иоселе как с родным, пожелал ему состариться с «ней» в богатстве и чести и уж не петь у амвона до скончания века.
А Переле буквально повисла на своем молодом муже, не отпускала его от себя ни на шаг. Лейца, напевая, укладывала в дорогу вещи. Сердце ее трепетало от мысли, что через несколько дней она увидит своего Лейви-Мотла. Берл-Айзик помогал ей собираться — бегал, подавал, суетился, словно какой-нибудь близкий Переле. «За богачом, — говорил себе Берл-Айзик, — служба не пропадет. Я опять-таки твержу свое: «Придет коза до воза». Во всяком случае к богачу не доложишь». Но Берл-Айзик непоправимо ошибся. На прощанье Переле, как говорится, даже руку не позолотила ему. Смирненьким котеночком стоял Берл-Айзик, чуть пригнув голову набок, страдальчески улыбался и все помогал, услужал, желая каждому доброго пути, счастливой дороги. Но в груди у него бушевало адское пламя: «Ах ты чертова баба! Ах ты сучка! Господи, свернуть бы ей шею на ровном месте!»
— Доброго пути! Доброго пути! — проговорил в последний раз Берл-Айзик, приподнимая шапочку и низко кланяясь. Сам же он думал сейчас только о пачке ассигнаций — своей доли за сводничество, полученных от Гедальи-баса, которые грели ему грудь, ласкали его сердце, как что-то очень дорогое.
Итак, три наших героя — Переле, Иоселе и Лейца, радостные, веселые, в большом мягком экипаже, запряженном четверкой лошадей, катили из Стрища в Бердичев. Лейца всю дорогу притворно дремала, чтобы не видеть, как мадам виснет на шее у Иоселе, как они целуются, милуются, будто два голубка.
«Наконец-то дорвалась! — рассуждала Лейца о мадам. — Еще и травинки на могиле покойного не выросло, еще душа его не очистилась там от грехов, а она уже вцепилась в этого. И отыскала же, просто Господи! Не могла дождаться лучшего — повисла на канторе! Хи-хи. Был бы здесь мой Лейви-Мотл, уж он бы посмеялся. Эти богачи прямо-таки с жиру бесятся. А ведь моя мадам тоже хорошая штучка! «Душенька, любушка, сердечушко!» — сладкие речи, да только до кармана. Вот складывала я ее белье, — Б-же мой, мне бы хоть половину того! — имей же совесть, предложи пару чулок, рубашку или какую-нибудь старую юбку, скажи, хоть бы для приличия: «На, Лейца, возьми на память от меня!» Куда там! Другая на моем месте тоже дожидалась бы приглашения! Как бы не так! Обобрала бы до нитки, лоскуточка не оставила бы, не то, что я, глупая… Ладно! Что до меня — пускай она сгорит вместе со своим добром, со всеми своими тряпками. А мне пусть Б-г поможет приехать домой с миром и поскорей повенчаться».
Такие мысли проносились в голове у Лейцы в то время как любящая пара целовалась и миловалась, а лошади мчали экипаж мимо лесов и полей, мимо деревень и городков. Никто не замечал, как летит время. Каждый был занят своими думами, у каждого были свои радости, свои утехи. Переле еще никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас здесь, в карете рядом со своим героем, красавцем, ангелочком. Он принадлежал ей, только ей! От одной мысли, что Иоселе — персонаж, которого можно встретить только на страницах романа, что этот херувим принадлежит ей, — у нее кружилась голова, она пьянела и погружалась в сладкие, сладкие грезы.