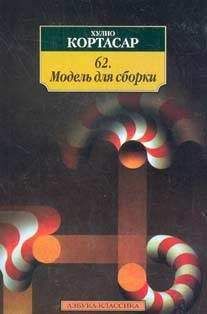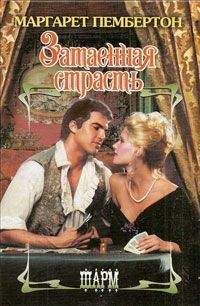Хулио Кортасар - Игра в классики
Оливейра напевал танго. Мага только пожала плечами и, не глядя на него, продолжала посасывать мате. «Бедняжка», — подумал Оливейра. Резким движением он отбросил ей волосы со лба так, словно это была занавеска. Трубочка звякнула о зубы.
— Как будто ударил, — сказала Мага, притрагиваясь дрожащими пальцами к губам. — Мне все равно, но…
— К счастью, тебе не все равно, — сказал Оливейра. — Если бы ты не смотрела на меня так сейчас, я бы стал тебя презирать. Ты — просто чудо, с этим твоим Рокамадуром и всем остальным.
— Зачем ты мне это говоришь?
— Это мне надо.
— Тебе — надо. Тебе все это надо для того, что ты ищешь.
— Дорогая, — вежливо сказал Оливейра, — слезы портят вкус мате, это знает каждый.
— И чтобы я плакала, тебе тоже, наверное, надо.
— Да, в той мере, в какой я признаю себя виноватым.
— Уходи, Орасио, так будет лучше.
— Возможно. Обрати внимание: уйти сейчас — почти геройский поступок, ибо я оставляю тебя одну, без денег и с больным ребенком на руках.
— Да, — сказала Мага, отчаянно улыбаясь сквозь слезы. — Вот именно, почти геройский поступок.
— А поскольку я — далеко не герой, то полагаю, что лучше мне остаться до тех пор, пока не разберемся, какой линии следовать, как выражается мой брат, который любит говорить красиво.
— Ну так оставайся.
— А ты. понимаешь, по каким причинам я отказываюсь от этого геройского поступка и чего мне это стоит?
— Ну конечно.
— Ну-ка объясни, почему я не ухожу.
— Ты не уходишь, потому что довольно буржуазен и думаешь о том, что скажут Рональд, Бэпс и остальные друзья.
— Совершенно верно. Хорошо, что ты понимаешь: ты сама тут совершенно ни при чем. Я не останусь из-за солидарности, не останусь из жалости или потому, что надо давать соску Рокамадуру. Или потому, что нас с тобой якобы что-то еще связывает.
— Иногда ты бываешь такой смешной, — сказала Мага.
— Разумеется, — сказал Оливейра. — Боб Хоуп по сравнению со мной ничто.
— Когда говоришь, что нас с тобой ничего не связывает, ты так складываешь губы…
— Вот так?
— Ну да, потрясающе.
Им пришлось хватать пеленки и обеими руками зажимать ими рот — так они хохотали, просто ужас, того гляди, Рокамадур проснется. И хотя Оливейра, закусив тряпку и хохоча до слез, как мог, удерживал Магу, она все-таки сползла с кресла, передние ножки которого были короче задних, хочешь не хочешь — сползешь, и запуталась в ногах у Оливейры, который хохотал до икоты, так, что в конце концов пеленка выскочила у него изо рта.
— Ну-ка покажи еще раз, как я складываю губы, когда говорю такое, — умолял Оливейра.
— Вот так, — сказала Мага; и они опять скорчились от хохота, а Оливейра согнулся и схватился за живот, и Мага над самым своим лицом увидела лицо Олнвейры, он смотрел на нее блестящими от слез глазами. Они так и поцеловались: она подняв голову кверху, а он — вниз головой, и волосы свисали, точно бахрома, а когда они целовались, зубы касались губ другого, потому что рты их не узнавали друг друга, это целовались совсем другие рты, целовались, отыскивая друг друга руками в адской путанице волос и травы, вывалившейся из опрокинутого кувшинчика, и жидкость струйкой стекала со стола на юбку Маги.
— Расскажи, какой Осип в постели, — прошептал Оливейра, прижимаясь губами к губам Маги. — Не могу так больше, кровь к голове приливает ужасно.
— Очень хороший, — сказала Мага, чуть прикусывая ему губу. — Гораздо лучше тебя.
— Послушай, ну и грязи от этого мате. Пойду-ка я прогуляюсь по улице.
— Не хочешь, чтобы я рассказала про Осипа? — спросила Мага. — На глиглико, на птичьем языке.
— Надоел мне этот глиглико. Тебе не хватает воображения, ты все время повторяешься. Одни и те же слова. Кроме того, на глиглико нельзя сказать «что касается».
— Глиглико придумала я, — обиженно сказала Мага. — А ты выдумаешь какое-нибудь словечко и воображаешь, но это не настоящий глиглико.
— Ну так вернемся к Осипу…
— Перестань валять дурака, Орасио, говорю тебе, не спала я с ним. Или я должна поклясться великой клятвой сиу?
— Не надо, кажется, я в конце концов поверю тебе и так.
— И потом, — сказала Мага, — сдается мне, я все-таки стану спать с Осипом, потому только, что ты этого хотел.
— А тебе и вправду этот тип может понравиться?
— Нет. Просто за все в жизни надо платить. От тебя мне не надо ни гроша, а с Осипом я не могу так — у него брать, а ему оставлять несбыточные мечты.
— Ну конечно, — сказал Оливейра. — Ты — добрая самаритянка. И пройти мимо плачущего солдатика в парке — тоже не могла.
— Не могла, Орасио. Видишь, какие мы разные.
— Да, милосердие не относится к числу моих достоинств. Я бы тоже мог где-нибудь плакать, и тогда ты…
— Никогда не видела тебя плачущим, — сказала Мага. — Плакать для тебя — излишняя роскошь.
— Нет, как-то раз я плакал.
— От злости, не иначе. Ты не умеешь плакать, Орасио, это одна из вещей, которых ты не умеешь.
Оливейра притянул к себе Магу и посадил на колени. И подумал, что, наверное, запах Маги, запах ее затылка привел его в такую грусть. Тот самый запах, который прежде… «Искать через посредство, — смутно подумалось ему. — Если я чего-нибудь и не умею, то как раз этого, и еще — плакать и жалеть себя».
— Мы никогда не любили друг друга, — сказал он, целуя ее волосы.
— За меня не говори, — сказала Мага, закрывая глаза. — Ты не можешь знать, люблю я тебя или нет. Даже этого не можешь знать.
— Считаешь, я настолько слеп?
— Наоборот, тебе бы на пользу быть чуточку слепым.
— Да, конечно, осязание вместо понимания, поскольку инстинкт идет дальше разума. Магический путь в потемки души.
— Очень бы на пользу, — упрямилась Мага, как она делала всякий раз, когда не понимала, о чем речь, но не хотела в этом признаться.
— Знаешь, и без этого я прекрасно понимаю: мы должны пойти каждый своей дорогой. Я думаю, мне необходимо быть одному, Лусиа; по правде говоря, я еще не знаю, что буду делать. К вам с Рокамадуром, который, по-моему, просыпается, я отношусь несправедливо плохо и не хочу, чтобы так продолжалось.
— О нас с Рокамадуром не надо беспокоиться.
— Я не беспокоюсь, но в этой комнате мы трое без конца путаемся друг у друга под ногами, это неудобно и неэстетично. Я не слеп, как тебе хочется, моя дорогая, а потому зрительный нерв позволяет мне видеть, что ты прекрасно справишься и без меня. Признаюсь: ни одна из моих подруг покуда еще не кончала самоубийством, хотя это признание смертельно ранит мою гордость.
— Да, Орасио.
— Итак, если мне удастся мобилизовать весь свой героизм и проявить его сегодня вечером или завтра утром, у вас тут ничего страшного не случится.
— Ничего, — сказала Мага.
— Ты отвезешь ребенка обратно к мадам Ирэн, а сама вернешься сюда и будешь жить преспокойно.
— Вот именно.
— Будешь часто ходить в кино и, как прежде, читать романы, с риском для жизни станешь прогуливаться по самым злачным, самым неподходящим кварталам в самые неподходящие часы.
— Именно так.
— И на улицах найдешь массу диковинных вещей, принесешь их домой и сделаешь из них что-нибудь. Вонг обучит тебя фокусам, а Осип будет ходить за тобой хвостом, на расстоянии двух метров, сложив ручки в почтительном подобострастии.
— Ради бога, Орасио, — сказала Мага, обнимая его и пряча лицо.
— Разумеется, мы загадочным образом будем встречать друг друга в самых необычных местах, как в тот вечер, помнишь, на площади Бастилии.
— На улице Даваль.
— Я был здорово пьян, и ты вдруг появилась на углу; мы стояли и смотрели друг на друга, как дураки.
— Я думала, что ты в тот вечер идешь на концерт.
— А ты, дорогая, сказала мне, что у тебя вечером свиданье с мадам Леони.
— И так забавно — встретились на улице Даваль.
— На тебе был зеленый пуловер, ты стояла на углу и утешала какого-то педераста.
— Его взашей вытолкали из кафе, и он плакал.
— А в другой раз, помню, мы встретились неподалеку от набережной Жеммап.
— Было жарко, — сказала Мага.
— Ты мне так до сих пор и не объяснила, что ты искала на набережной Жеммап.
— О, совершенно ничего.
— В кулаке ты сжимала монетку.
— Нашла на краю тротуара. Она так блестела.
— А потом мы пошли на площадь Республики, там выступали уличные акробаты, и мы выиграли коробку конфет.
— Ужасных.
— А еще было: я вышел из метро на Мутон-Дюверне, а ты, моя милая, сидела на террасе кафе в обществе негра и филиппинца.
— А ты так и не объяснил мне, что тебе понадобилось на Мутон-Дюверне.
— Ходил к мозолистке, — сказал Оливейра. — Приемная у нее в фиолетово-красных обоях, а по этому фону — гондолы, пальмы, парочки под луной. Представь все это тысячу раз повторенное размером восемь на двенадцать.
— И ты ходил ради этого, а не ради мозолей.
— Мозолей у меня не было, дорогая моя, а жуткий нарост на ступне. Авитаминоз, кажется.