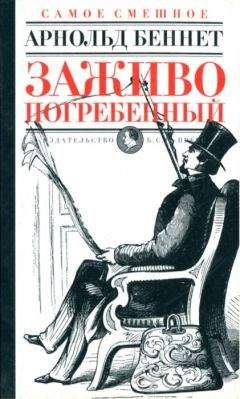Мор Йокаи - Черные алмазы
Вполне естественно, что графиня избегала и светских развлечений, ее нельзя было уговорить поехать на бал, в театр. Это были арены греховных и фривольных развлечений.
Но все же она не решилась надеть монашеский плат, а, напротив, предъявила весьма высокие требования к свету. Она желала, чтобы свет переменился и стал таким, как ей хочется. Графиня требовала, чтобы свет предоставил ей идеал мужчины, каким она себе его мыслила: он должен обладать гладким лицом, чистой душой, звонким голосом, должен быть нежным, послушным, верным, не пить, не курить, не играть в карты, не спорить, быть чувствительным, остроумным, терпеливым, любезным, кротким, мечтательным, быть домоседом, благочестивым, религиозным, целомудренным; кроме того, он должен блюсти все праздники, быть умным, начитанным, всезнающим, знаменитым, высокопоставленным, всеми уважаемым, лояльным, храбрым и богатым, иметь титулы и ордена; всеми этими прекрасными свойствами и качествами, возможно, где-то кто-то и обладает, но найти подобный идеал весьма трудно.
На поиски его графиня Теуделинда потратила свои лучшие годы. И чем дальше, тем требовательнее она становилась, а чем больше возрастали ее требования, тем меньше находила она портретов, которые бы соответствовали приготовленной для них раме.
Старшему брату графини князю Густаву принадлежит высказывание, лучше всего характеризующее душевное состояние графини.
«Мы вряд ли найдем мужа для моей сестры Теуделинды, пока Вселенский собор не упразднит целибат».
Так и не нашли.
Графине перевалило за тридцать, и она очутилась в довольно плачевном положении: предъявляла к свету претензии, принять его таким, каков он есть, не желала, но и решиться на монастырское отречение тоже не могла.
Старый князь умер, оставив графине Теуделинде в пожизненное пользование бондаварское поместье вместе с древним замком. Вот уже много лет графиня со своими разбитыми иллюзиями укрывалась здесь от мира. Брат, который был лишь юридическим владельцем поместья, не имел права, покуда графиня жива, вмешиваться в то, что она там делала.
В бондаварском одиночестве, на свободе ненависть графини Теуделинды к усам и бороде расцвела пышным цветом.
Носители подобной растительности не должны были попадать в поле ее зрения.
Позднее «a minori ad majus»[17] вслед за усами из замка был изгнан и весь мужской пол вообще. Возле себя она не терпела никого, только женскую челядь. Повариха, садовница, судомойка, истопница, горничная, камеристка, портниха — все были девицы; о замужестве, служа у нее, даже думать было нельзя, а если у кого и появилась бы подобная запретная склонность, отступница тотчас могла убираться прочь из поместья. Даже в кучерах у графини ходила женщина — она, правда, принадлежала к разряду вдов, но в виде исключения была допущена ко двору. Ей одной — также в виде исключения — было разрешено — поскольку в женской одежде сидеть на козлах неприлично — к длинной кучерской бекеше надевать мужскую шляпу и некий предмет туалета, название которого, произнесенное вслух, заставляет английских леди вскрикивать: «Шокинг!» — и терять сознание; предмет сей древние римляне не носили, а шотландцы до сих пор не носят, и именно в годы, когда происходила эта история, в нашей доброй Венгрии он играл важную роль, будучи основным признаком и явным символом верности конституции или склонности к компромиссу, в зависимости от того, носили ли невыразимый предмет одежды поверх сапог или засовывали его внутрь голенищ.
Одним словом, вдове Эржик, единственной во всем замке, было позволено носить эту штуку. Вдова Эржик имела также право пить вино и курить, что она и делала.
Служила еще у графини компаньонка, барышня Эмеренция, которая являлась идеальным дополнением графини. Графиня была высокой, сухощавой, с тонкими чертами лица, белой кожей, почти прозрачным носом. Губы у нее были неестественно красного цвета и по форме напоминали безукоризненно вырезанный лук, — когда-то, вероятно, они были красивы. Фигура у нее была худая, поникшая, сгорбленная, ресницы блеклые. Долгие годы привычного жеманства сделали ее лицо как бы состоящим из двух половинок, причем у каждой имелось свое выражение и, впрочем, это уже невежливость фотографа, даже свои морщины. Волосы она и сейчас завивала так же, как во времена свадьбы Каролины Пиа, и, если ее прическа продержится еще несколько лет, она снова войдет в моду; все ее платья были прилегающими тоже по моде той эпохи, она не терпела кринолинов, подкладных подушечек на бедрах, воланов, накрахмаленных и прочих пышных нижних юбок. Руки у нее были тонкие, прозрачные, дрожащие: она не могла даже книгу ножом разрезать. Графиня была нервным чувствительным созданием: от малейшего шума вздрагивала, ее били судороги, она начинала трястись. Графиня испытывала непонятную антипатию к некоторым предметам, животным, запахам, движениям, блюдам, прикосновениям; при виде кошки падала в обморок, когда видела цветок телесного цвета, вся кровь в ней закипала: она ощущала вкус чистого серебра, поэтому ей подавались только позолоченные ложки; стоило кому-нибудь положить ногу на ногу, как она прогоняла его прочь; не садилась к столу, если нож, вилка или ложка лежали крест-накрест, а когда замечала на ком-нибудь из своей женской прислуги что-либо из бархата, у нее начинался нервный тик от мысли, что вдруг она случайно дотронется до этой ужасно мягкой, но липнущей к рукам, электрической, омерзительной, бесовской ткани!
Просто счастье, что хоть ночью она не беспокоила свою челядь нервическими причудами, так как закрывалась во внутренних покоях и до утра, даже случись в доме пожар, ни за что не открыла бы дверь.
Барышня Эмеренция, которая, как мы говорили, была идеальным дополнением графини, прежде всего обладала всем, отсутствующим у графини. Компаньонка была низенькой, круглой, толстой, с тугим, располневшим, сильно набеленным — чтобы походить на графиню — лицом. Нос у нее был курносый, и втайне она обожала нюхательный табак. Одевалась она и причесывалась так же, как и графиня, но о ее туалетах, обтягивавших фигуру, нельзя говорить без улыбки. И в довершение всего она была такой же нервной, как графиня. Руки ее были так же слабы, она тоже не могла разрезать книгу, глаза были так же чувствительны к дневному свету, антипатии так же многочисленны, и она так же была подвержена всевозможным обморокам и конвульсиям, как графиня. В этом отношении она даже превосходила графиню, ибо как только видела, что сейчас произойдет что-то такое, что напугает и ужаснет хозяйку, Эмеренция опережала ее и на минуту раньше начинала испуганно дрожать, потом ее охватывало нервное оцепенение; она, по крайней мере, на минуту дольше, чем графиня, умела икать, и, если та падала в обморок на одну кушетку, компаньонка теряла сознание и растягивалась на другой; так они и лежали друг против друга, пока наконец графиня первая не приходила в себя.
А вот сон у барышни Эмеренции был глубоким; ее спальня помещалась в третьей от графини комнате, но спала она так крепко, что Теуделинда могла оборвать все шнурки от звонков, так и не дождавшись Эмеренции.
Это был один из видов нервной сонной болезни, как утверждала Эмеренция.
В бондаварский замок ход был открыт только одному-единственному мужчине.
Но что мы говорим? Какой там мужчина! Не masculinum.[18] Религиозная догма изобрела людей «neutrius generis».[19] Это был священник, то есть больше и меньше, нежели просто человек мужского пола, — духовный отец. Физически — ничей отец, духовно — отец тысяч.
Не ждите от меня злословия, колкостей, нападок. Приходский священник господин Махок был славным, честным человеком. Призвание свое он воспринимал так, как положено: служил все службы, крестил, венчал, хоронил, согласно обычаю; вставал и ночью, если звали к умирающему, и не ругал ризничего за то, что тот вытаскивал его потного из постели. Экономка, которая вела у него хозяйство, была старше его на десять лет и вне всяких подозрений. Господин приходский священник не писал полемических статей в перебранивающиеся между собой газеты и даже не читал их, лишь изредка одалживал у управляющего поместьем и просматривал «Пешти Напло». Если кантор собирал пожертвования, то священник к филлерам добавлял от себя форинт и отсылал в «Идек Тануя»,[20] однако по вечерам все же садился играть в тарок[21] с лютеранским пастором и скептически настроенным управляющим поместьем. Господин Махок гордился своим отличным винным подвальчиком и птичьим двором, был превосходным пчеловодом и садовником. В политике проявлял лояльность и был сторонником партии центра; в деревне это значило голосовать за табачную монополию, а самому курить самосад, так как табак это отменный и всегда под рукой.
Из сказанного выше каждый может догадаться, что его преподобие на протяжении всей этой истории мухи не обидит. И вообще, мы бы никогда с ним не столкнулись, как до сих пор не сталкивались с тысячами добрых сельских священников, если бы волею случая господин Махок не был ежедневно зван к одиннадцати часам в бондаварский замок исповедовать графиню, а по окончании исповеди она не оставляла бы его у себя обедать. Надо сказать, обе свои задачи он обычно выполнял весьма добросовестно, что с благословения небес отражалось на его округлом животике, двойном подбородке и всегда румяном лице.