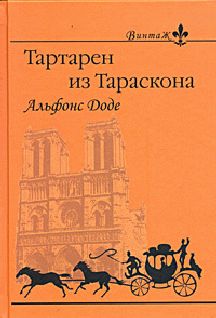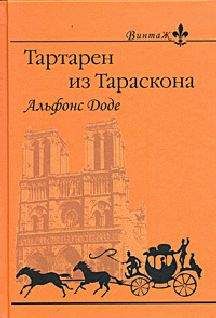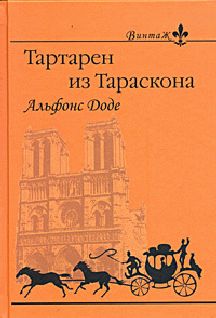Альфонс Доде - Тартарен из Тараскона
Нет, нет! Существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с первого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задирать нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное.
Я вам уже сказал: рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в «Риги-Кульм», а между тем, принимая во внимание многочисленность разноплеменных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если б он был устроен у подножья Вавилонской башни.
Когда альпинист вошел, вид залитой светом люстр трапезы молчальников привел его в некоторое замешательство; он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания, — тогда он сел с краю стола, в самом конце залы. Без доспехов, это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека, плешивого, с брюшком, с остроконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц, было что-то особенно привлекательное.
Кто же он: рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку.
Только успев сесть, он беспокойно заерзал на стуле, потом испуганно вскочил.
— А, чтоб его!.. Сквозняк!.. — воскликнул он и устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спинкой к столу.
Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его:
— Это место занято, сударь…
Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь, с сильным акцентом:
— Нет, оно свободно… Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу.
— Болен? Болен? — участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол. — Надеюсь, не опасно, а?
Он произнес — «э». Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде: «Что, ну что, а ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, э-эх, все-таки», которые еще резче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз.
Сосед справа тоже не очень к себе располагал; это был итальянский тенор, ражий детина с низким лбом, маслеными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенькой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой, — он считал, что это полезно для здоровья.
— Ишь ты! Какие красивые запонки!.. — вслух заговорил он сам с собой, посматривая на манжеты итальянца. — На яшме вырезаны ноты — прррэлэстно!..
Его голос, в котором слышался металл, рокотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзвука.
— Вы, наверно, певец? Чтэ?
— Non capisco…[38] — пробурчал себе под нос итальянец.
Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала митенка, к горчичнице, он предупредительно подвинул ее.
— Пожалуйста, барон…
Он слышал, что все именно так обращались к дипломату. Но вот горе: бедный фон Штольц, несмотря на то что он производил впечатление человека хитроумного, искушенного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице, затем молча опустил. Нужно было, по крайней мере, десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности.
При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало! Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой вполголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке и не слыхала, что он к ней обратился. Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьким прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос… Кто она: полька, русская, норвежка?.. Во всяком случае, северянка. Тут южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать:
Севера звезда, графиня!
Вижу я: вас нынче вновь
Серебром осыпал иней,
Чистым золотом — Любовь[39].
Все обернулись: уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся — только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо.
— Опять чернослив!.. Да ни за что на свете!
Это было уже слишком.
Все задвигали стульями. Академик, лорд Чипндейл(?), боннский профессор и другие важные персоны из партии черносливцев встали и в знак протеста покинули зал.
Рисолюбы почти тотчас же последовали за ними, так как и другие десертные блюда были отвергнуты альпинистом не менее решительно.
Ни рис, ни чернослив!.. Но тогда что же?..
Все направились к выходу, и было что-то леденящее в этом молчаливом шествии поднятых носов и надменно поджатых губ мимо несчастного альпиниста, — подавленный всеобщим презрением, он остался один в огромной, ярко освещенной зале как раз в ту минуту, когда, накрошив хлеба, он собирался приготовить себе блюдо, которое так любят на юге!
Друзья мои, не презирайте никого! Презрение — это козырь в руках выскочек, позеров, уродов и глупцов, личина, за которой прячется ничтожество, а иногда и низость, и которая прикрывает отсутствие ума, собственного мнения и доброты. Все горбуны исполнены презрения, все курносые морщат и задирают свой нос при виде носа прямого.
Добрый альпинист это знал. Ему было уже за сорок, он уже переступил через «роковой сороковой», он находился в той поре, когда человек подбирает и находит волшебный ключ, отмыкающий потайные двери жизни, за которыми открывается однообразная обманчивая анфилада; он отлично знал цену жизни, сознавал всю важность своего назначения, понимал, к чему обязывает его громкое имя, а потому его нимало не беспокоило, что о нем думают эти господа. Ведь ему стоит только назвать себя, крикнуть: «Это я!..» — и все эти надменно выпяченные нижние губы тотчас расплывутся в почтительной улыбке. Но инкогнито его забавляло.
Он страдал лишь оттого, что не мог разговаривать, шуметь, откровенничать, отводить душу, пожимать руки, фамильярно похлопывать по плечу, называть собеседников уменьшительными именами. Вот что угнетало его в «Риги-Кульм».
Особенно он страдал оттого, что не мог разговаривать!
«Этак и типун на языке вскочит…» — рассуждал сам с собой бедняга, слоняясь по отелю и не зная, чем заняться.
Он зашел в кафе, обширное и пустое, как собор в будни, подозвал официанта, назвал его «мой милый друг» и заказал «кофе, но только без сахару. Чтэ?». И хотя официант не спросил его: «А почему без сахару?» — альпинист поспешил добавить: «Эта привычка осталась у меня от того времени, когда я охотился в Алжире».
Ему не терпелось рассказать о своей замечательной охоте, но официант, неслышно, как привидение, ступая в своих мягких туфлях, полетел к лорду Чипндейлу, — тот, развалясь на диване, каркал: «Чимпэньского!.. Чимпэньского!» Выстрелила пробка, а затем в наступившей тишине было слышно лишь, как воет ветер в трубе монументального камина да прерывисто шуршит снег, ударяясь о стекла окон.
Читальный зал тоже наводил тоску: у всех в руках газеты, сотни голов склонились под рефлекторами над длинными зелеными столами. Время от времени слышится зевок, покашливанье, шелест переворачиваемых листов, и, возвышаясь над тишиной этой классной комнаты, спиной к печке стоят неподвижно два жреца официальной истории, Шванталер и Астье-Рею, оба величественные, оба одинаково пропахшие плесенью, по прихоти судьбы встретившиеся на вершине Риги после того, как они тридцать лет подряд ругательски ругали друг друга и в объяснительных записках выражались не иначе, как «Круглый дурак Шванталер… Vir ineptissimus[40] Астье-Рею…»
Можно себе представить, какой прием оказали они общительному альпинисту, когда он подсел к ним потолковать у огонька и понабраться от них ума-разума! От этих кариатид на него тотчас повеяло холодом, а он этого так не любил! Он встал и зашагал по залу — не только для того, чтобы замять неловкость, но и для того, чтобы согреться, — затем открыл библиотечный шкаф. Там валялось несколько английских романов вперемежку с толстыми Библиями и разрозненными томами «Записок Швейцарского клуба альпинистов». Он достал одну книгу и хотел было взять ее с собой, почитать перед сном, но вынужден был водворить на место, так как уносить книги из читального зала в номера не разрешалось.